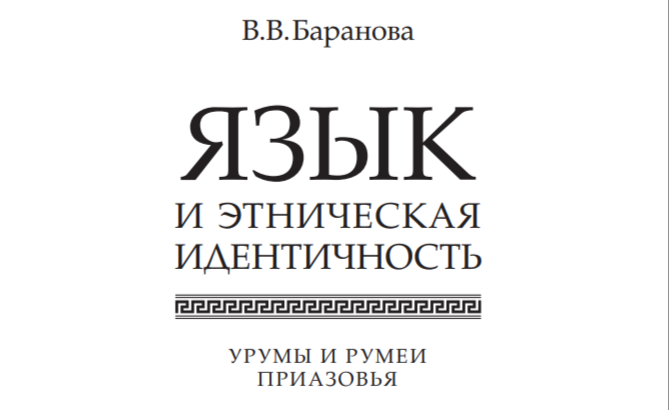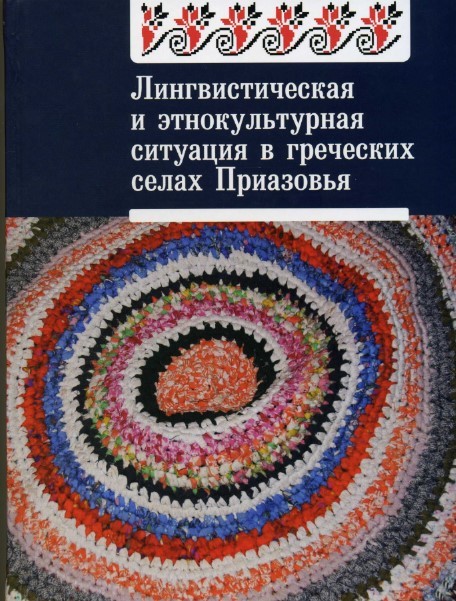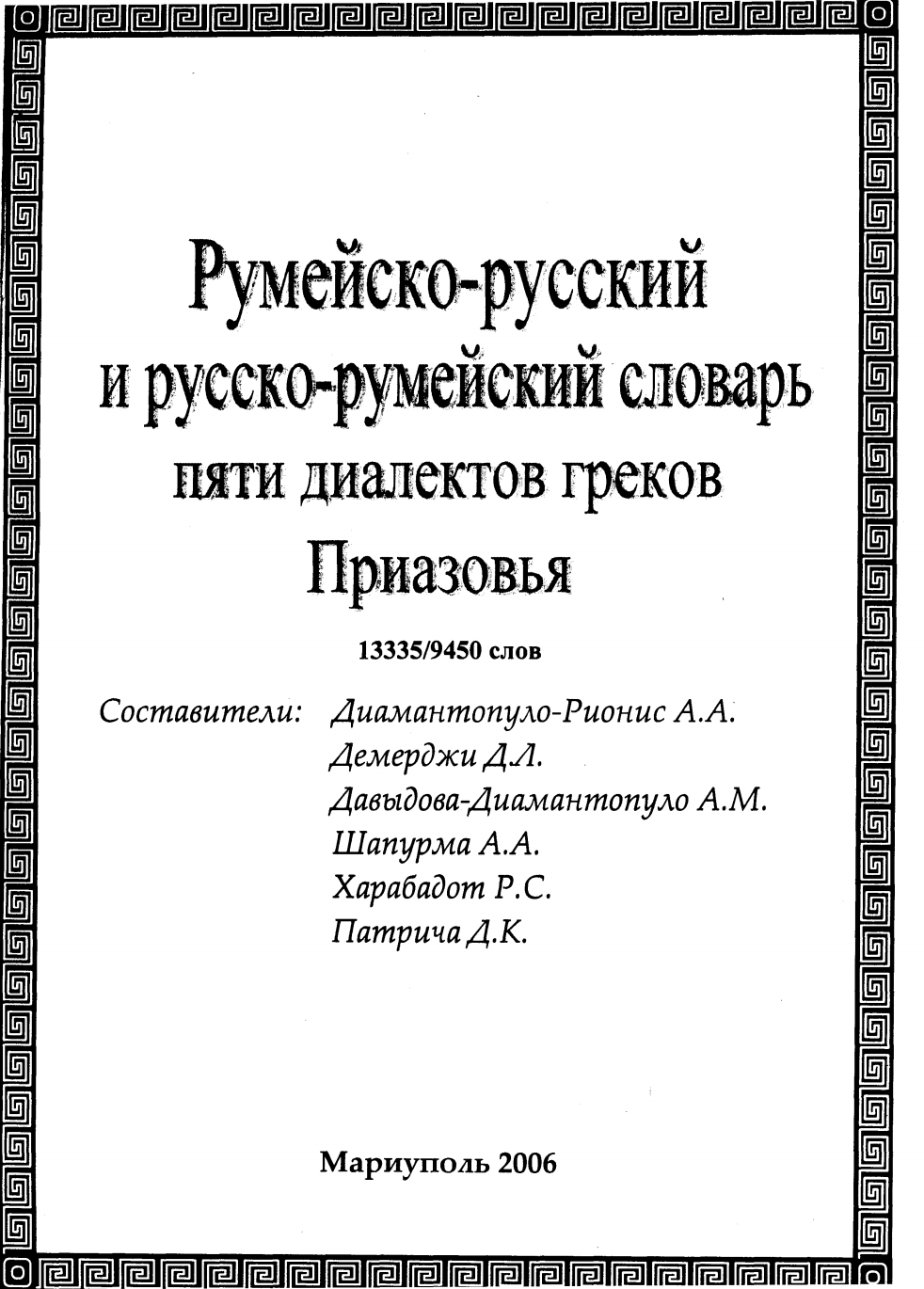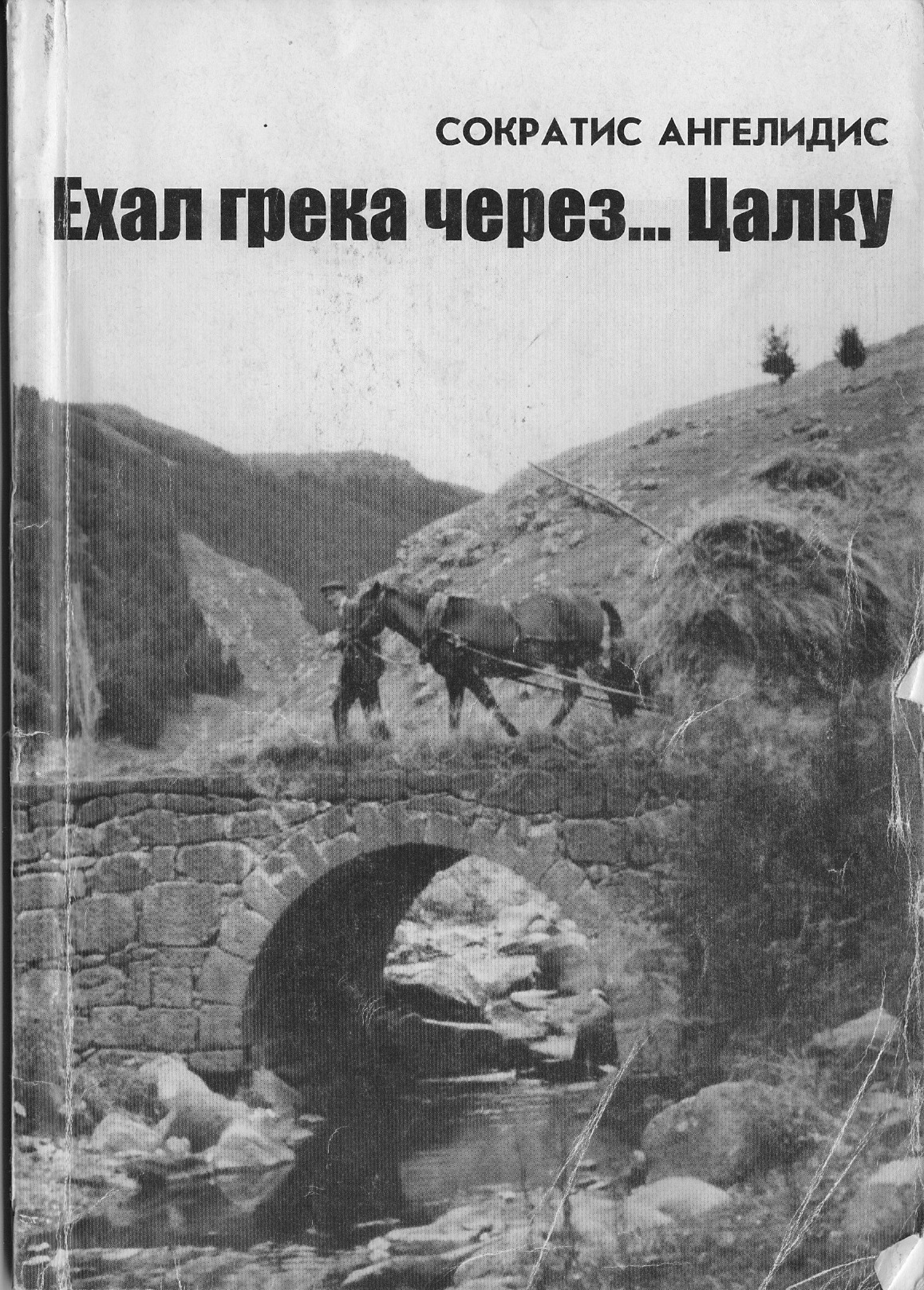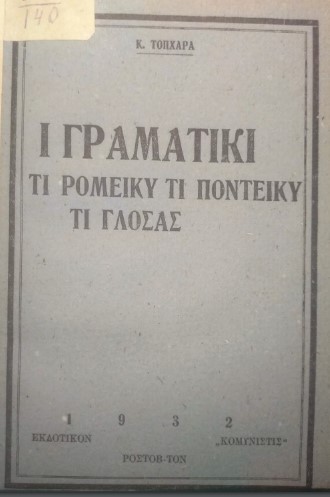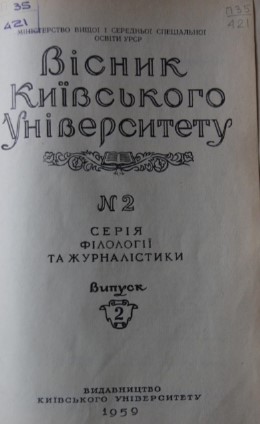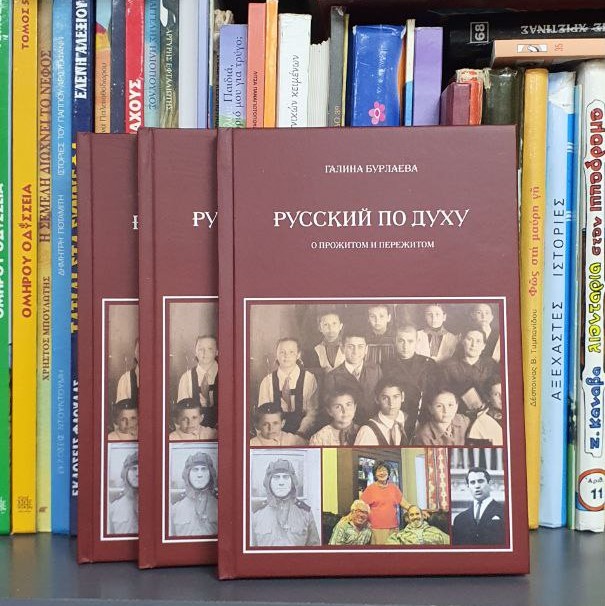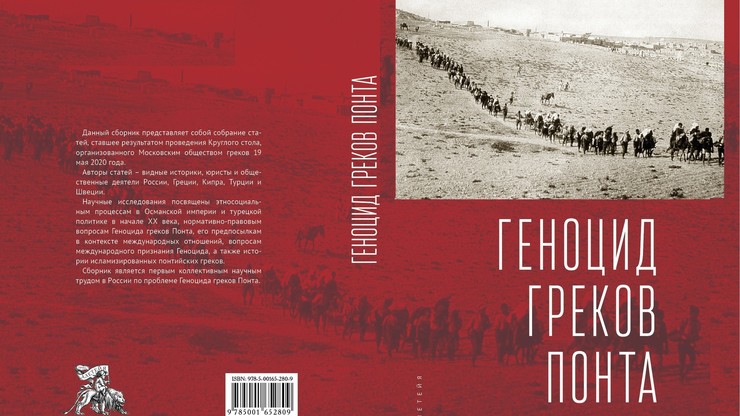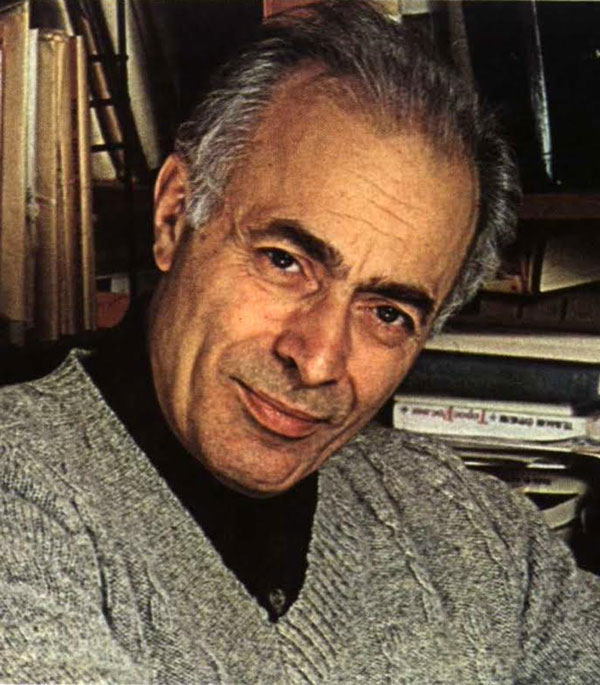 Мицос Александропулос родился в местечке Амальяда 26 мая 1924 года. В юношеские годы участвовал в движении Сопротивления, с 1942 года стал членом ЭАМ молодежи (Национальный освободительный фронт).
Мицос Александропулос родился в местечке Амальяда 26 мая 1924 года. В юношеские годы участвовал в движении Сопротивления, с 1942 года стал членом ЭАМ молодежи (Национальный освободительный фронт).
Под псевдонимом Сфирис посылал фельетоны в газету “Кафимерина Неа”. В конце 1949 года был вынужден уехать из Греции, первоначально в Бухарест, а после, в 1956 году, в Москву, где жил до 1975 года. В 1953 году был трижды осужден военным судом г. Янина и приговорен к смертной казни.
В 1957 году в Москве он знакомится с Софией Ильинской, тогда студенткой 2-ого курса классической филологии МГУ, и женится на ней в 1959 году. У них родилась дочь, Ольга Александропулу.
Сам он говорил: “Мне кажется, что я все время писал одну и ту же книгу, хотя нигде нет повтора в ритме, в темах, в формах, в манере письма”.
В творчестве Мицоса Александропулоса переплелись две культурные и литературные традиции – греческая и русская. Русская часть его творчества завершилась биографическим романом “Толстой” и посвящением трагической судьбе Осипа Мандельштама “Осип Мандельштам. Встретимся снова в Петербурге” – это его последняя книга.
Он работал во многих жанрах, от рассказа до путевых эссе, был прозаиком, эссеистом, переводчиком.
Источник https://www.livelib.ru/author/111460-mitsos-aleksandropulos
Роман-дилогия “Ночи и рассветы” состоит из двух книг — «Город» и «Горы», рассказывающих о двух периодах борьбы с фашизмом в годы второй мировой войны.В первой части дилогии действие развертывается в столице Греции зимой 1941 года, когда герой романа Космас, спасаясь от преследования оккупационных войск, бежит из провинции в Афины. Там он находит хотя и опасный, но единственно верный путь, вступая в ряды национального Сопротивления.Во второй части автор повествует о героике партизанской войны, о борьбе греческого народа против оккупантов.Эта книга полна суровой правды, посвящена людям мужественным, смелым, прекрасным.

ГОРОД
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Замученный город не знает покоя.
Яннис Рицос
I
Маленькая площадь открылась перед ним, съежившаяся, погруженная в молчание. Вечерело. За тусклыми стеклами кафе горели безжизненные огни. Взгляд Космаса ненадолго остановился на большом окне над центральным входом в бар «Александр Великий». Стекло было желтым и запотевшим.
Дул холодный ветер, со свистом врывавшийся на площадь с северных улиц. Зима уже прошла, но было все еще холодно. Очень суровая выдалась в этом году весна. И лучше не будем называть ее весной. Это была свирепая старуха с косой, сеющая голод и смерть.
Прохожие шли согнувшись, почти бегом, — молчаливые тени. Было очень тихо. Космасу показалось, что стоит ему закричать — и он услышит, как его голос, уходящий и вновь возвращающийся, мечется от стены к стене.
Эта площадь — центр города. Шесть улиц расходятся отсюда и достигают самых окраин. Здания в основном старые, двухэтажные. Только на западной стороне высится большой новый дом в шесть этажей. На первом этаже аптека. В других зданиях рестораны или кафе, наверху — гостиницы. Сейчас все занято немцами и итальянцами. Но некогда славные названия — «Дворец гостеприимства», «Гостиница Мажестик», «Зевс Олимпийский», «Гранд-отель» — еще не стерлись с заржавевших вывесок. Перед гостиницами широкие тротуары, и площадь, возвышающаяся над ними, похожа на большую эстраду, выложенную плитами, окаймленную лавочками и цветочными киосками. И лавки, и киоски теперь закрыты. На дверях большие засовы и толстые ржавые замки. Мраморные лестницы, с четырех сторон поднимающиеся к площади, черны от грязи, высохшие стебли плавают в запущенных цветочных вазах.
Космас собрался перейти площадь. Но из-за угла вдруг выскочил немецкий грузовик и с ревом пронесся мимо. Будто подкарауливал, чтобы наброситься, как только он сойдет с тротуара. За первым грузовиком мчались другие. В кузовах стояли солдаты — каски, шинели, нацеленные в небо дула автоматов.
На краю тротуара собрались прохожие, пережидавшие, когда минует колонна. Но грузовики все шли один за другим, с грохотом преодолевая подъем на площадь. Немцы молчали, лишь толстый коротышка в последней машине смешно вытаращил глаза, открыл рот и втянул щеки, издеваясь над худобой голодающих. Проезжая мимо Космаса, он потерял равновесие и схватился за плечи товарищей. Те поддержали его, он выпрямился и залился смехом. Он смеялся, пока грузовик не исчез за поворотом.
Космас взбежал по ступенькам и, оказавшись возле лавочек, увидел на другом конце площади темную шевелящуюся массу. Он отчетливо различил большую железную решетку, лежавшую над подземным вентилятором; человек двадцать шагали по ней, сгорбленные и безмолвные. Космас не знал, что это за люди и что они здесь делают. Но их сгорбленные фигуры поразили его. И больше всего потрясло их молчание.
Каким он увидит голодающий город, Космас себе примерно представлял. С месяц назад к ним в провинцию приехал парикмахер. Он рассказывал, что люди умирают на улицах, на рассвете катафалки не успевают их подбирать, кладбища переполнены, хоронить негде. Да и сам парикмахер изрядно опух. В первый раз в тех местах узнали, что человек может растолстеть от голода. «Смерть от голода — сладчайшая смерть, — убеждал парикмахер, будто сам это испытал. — Все тело охватывает приятное оцепенение, и человек угасает, как птичка: сидит с вами, вдруг закрывает глаза и уходит из жизни. Или ложится в постель, засыпает и не просыпается…» От парикмахера они услыхали, что многие теперь не хоронят умерших родственников, а ночью на тележках тайком увозят на кладбище, чтобы никто не узнал об их смерти и карточка умершего осталась живым….
На верхней ступеньке лестницы сидел мужчина. С первого взгляда Космас принял его за нищего. Нищих он встречал на всем пути от вокзала до площади. Большинство из них сидели у дверей магазинов и по краям тротуаров. Другие смешивались с толпой. Они брели с мертвенным, застывшим взглядом, тихо и монотонно повторяя одно слово: «Голоден». Этот непрерывный шепот, вылетавший из голодных ртов, перерастал в крик, нависший над городом. Нищие брели не останавливаясь, они знали, что их никто не услышит. Здесь были женщины и маленькие дети, старики, мужчины средних лет и подростки. Наверно, такой же нищий сидел сейчас тут на ступеньке. Космас бегом спустился по лестнице. Но едва он сошел на тротуар, как его мысли снова вернулись к человеку, сидевшему на ступеньке. Космас остановился.
Его озадачила одна подробность: ему показалось, что на нищем был галстук-бабочка. Белая рубашка и черный галстук. Космас оглянулся. Действительно, у мужчины был галстук-бабочка. Он спал, голова у него откинулась, белая рубашка и галстук были видны отчетливо. Рядом на мраморной лестнице лежала шляпа. «Спит или умер?» — подумал Космас.
Он почувствовал острую жалость к этому человеку. Вероятно, потому, что это была первая жертва голода, которую Космас увидел своими глазами. Весь в черном, в шляпе, с галстуком-бабочкой на шее, маленький и щуплый, он, видно, отказался от всякой борьбы за жизнь и пришел на пустынную площадь, чтобы встретить здесь свой конец.
У Космаса был мешочек с черным изюмом. По дороге к площади Космас изрядно его опустошил, но и половины того, что осталось, будет достаточно. А может быть, уже поздно! Космас поднялся на несколько ступенек и нагнулся, чтобы положить изюм рядом со шляпой. Нагибаясь, он увидел опухшее лицо и глаза, открытые, неподвижные.
* * *
Мужчина в кожаной куртке проворно поднимался по лестнице. Космас окликнул его. Мужчина остановился в двух шагах и спросил:
— Только что?
Космас пожал плечами. Мужчина подошел, дотронулся до руки мертвого.
— Еще тепленький!
Были в его тоне и привычное безразличие, и дешевый цинизм — что-то неуместное, грубое.
— Многая лета живым! — продолжал неизвестный, вытирая руки о брюки. — Смотри, пожалуйста, явился сюда разнаряженный, как жених, — галстук, шляпа. Только лакированные ботинки в спешке забыл надеть…
Только тут Космас заметил, что мертвец бос. Одна нога совсем голая. На другой — дырявый носок, из дыры торчит большой палец.
Незнакомец обернулся и стал рассматривать Космаса.
— Родственник?
Космас покачал головой: нет.
Между тем мужчина увидел в руке Космаса горсть изюма.
— Ба-ба-ба!.. Изюмчик! Откуда, мой магараджа, это сокровище?
Его глаза так и шныряли от руки Космаса к карману мертвеца и обратно. Космас понял, что незнакомец подозревает его в воровстве.
— Я хотел отдать ему! Я думал, что…
— А!.. Ну, ладно, ладно! Тогда опусти-ка ты эту горсть мне в карман. Какая тебе разница?
— Хорошо. Но помоги мне унести его.
— Куда?
— Не оставлять же его здесь!
Незнакомец взял изюм, сунул его в карман брюк.
— Ты ведь нездешний? Приезжий?
— Приехал сегодня вечером.
— Из провинции?
— Из Пелопоннеса. А что?
Тот некоторое время подумал. Потом снова поднял на Космаса свой хитрый взгляд.
— Скажи, ты добирался морем?
— Нет, не морем, на поезде.
— Ну, пусть на поезде. Через Истм? Ты проезжал Истм? Проезжал!.. Что ж ты упустил случай и не бросился там с обрыва в Саронический залив?
Космас растерялся.
— Не обижайся. У нас в городе одна половина людей умирает, другая половина их хоронит. Что ты предпочтешь, что тебе больше по сердцу? Послушай моего совета, не раскаешься: отправляйся-ка ты прямиком назад, в Пелопоннес. Ну, а сейчас сделай доброе дело, подбрось сюда еще одну горсточку. — Он подставил карман куртки. — Не для меня, для детей. У меня два скелетика, два волчонка, которые только и ждут, чтобы я набил им животы. В один прекрасный день они растерзают меня, как настоящие волки. Разрази меня бог, если я вру! Спасибо! А еще одну можно, спаситель ты мой? Покорнейше благодарю. И послушай меня: дуй поскорее на вокзал. Не теряй ни секунды. И он повернулся, чтобы уйти.
— Одну минуту! — остановил его Космас. — Я хочу у тебя спросить…
— С удовольствием готов тебе услужить. Космас показал ему на людей, шагавших взад и вперед по железной решетке.
— Что они делают?
Незнакомец протянул:
— Загора-а-ают…
— Что?
— Греют косточки. Под решеткой проходит электричка, и оттуда поднимается теплый воздух. «Так зачем же нам, — говорят эти бедняги, — топить дома и влезать в лишние расходы, если можно провести ночь здесь?»
— И они ходят так до утра?
— Пока не приедут катафалки… Нужно очистить место: вечером явятся другие.
Космас проводил его взглядом, потом быстро спустился по лестнице.
Не успел он подойти к вентилятору, как перед ним выросла какая-то бесплотная фигура.
— Возьми! — сказал Космас, протягивая полную горсть изюма.
Это был человечек без возраста. Скелет, обтянутый высохшей, сморщенной кожей. Глаза устало смотрели из глубоких впадин.
— Возьми! — мягко повторил Космас.
Человек не пошевелился. Прошло немало времени, прежде чем он перевел взгляд на ладонь Космаса.
— Изюм! — проговорил он наконец.
Но не взял, а повернулся к товарищу, который подошел и остановился возле них.
— Смотри! — тихо сказал он ему.
Товарищ тоже не притронулся к изюму. Они так и стояли, наклонив голову, дуя на руки и переглядываясь, как заговорщики.
— Боженька ты мой, да что же это у него! — воскликнула какая-то женщина и подбежала к Космасу. — Если твоя мать жива, пусть будет она здорова до старости, а если нет, бог тебе воздаст. Дай мне, сыночек, положи сюда!
И она подставила карман пальто.
— Нет, нет, лучше не в карман! — тут же спохватилась она. — Он дырявый. Давай сюда. — И она протянула сложенные лодочкой ладони.
— Почем он у тебя, мой мальчик? В какую цену? — спросил высокий человек в очках.
— Даром! — ответил Космас. — Берите!
— Даром?!
— Берите, берите!
К нему протянулось несколько рук.
— Как мне отблагодарить вас, дитя мое? — растроганно сказал человек в очках и снова подставил ладонь. — Как мне выразить вам свою благодарность? Идите, идите сюда, погрейтесь! Здесь тепло…
— Я тороплюсь, — ответил Космас. — Я иду на улицу Регины, а мне сказали, что это далеко.
— Улица Регины? Вы там живете?
— Там живет мой друг.
— Это и в самом деле далеко. Вам нужно торопиться, мой мальчик.
Высокий господин поклонился, медленно прожевывая изюм, словно сытый хозяин, только что вставший из-за стола проводить своего гостя.
— Спокойной ночи! И доброго утра! — сказал Космас.
— Доброго утра!
* * *
Приказом Команде Пьятца{[1]} и немецкой комендатуры появляться на улице позже одиннадцати запрещалось. Патрули расстреливали нарушителей на месте.
Когда Космас добрался до улицы Регины, город обезлюдел. Космас постучался в дом № 18. Дверь приоткрыла старуха.
— Здесь живет…
Старуха протянула руку, схватила Космаса за плечо.
— Заходи скорее, сынок! — Ее голос дрожал, — А то убьют!
Он вошел в дом.
— Кого тебе нужно?
— Господина Энгонопулоса.
— Энгонопулос… Энгонопулос… — Старуха помешкала, будто пыталась снять с памяти паутину. — Что за Энгонопулос, сынок? Здесь нет никакого Энгонопулоса.
— Господин Андреас Энгонопулос.
— Господин Андреас…
Ты хочешь сказать — Андрикос!
— Да, да, господин Андрикос!
— Тогда пойдем. Возьми меня за руку, а то ушибешься.
Они вошли во двор.
— Вон там, — сказала старуха, показав на лестницу, ведущую в подвал. — Господин Андрикос живет вон там, внизу. Только он, наверное, спит сейчас. Но ты постучи, погромче постучи. Он глуховат…
Космас направился к лестнице.
— Подожди, я и не спросила, сынок, кем тебе доводится Андрикос. Вы родственники?
— Нет. Я друг Аргириса, его племянника.
— Кого-кого? — переспросила старуха, задержавшись в дверях.
— Аргириса. Вы знаете Аргириса, тетушка?
Старуха не ответила.
«Не расслышала», — подумал Космас и начал спускаться по лестнице.
* * *
Господин Андрикос открыл дверь, держа в руке свечу. Это был совсем седой мужчина. Поверх ночной рубашки он набросил черное пальто.
— Ты спрашиваешь Аргириса? — сказал он. — Аргириса?
— Да, мы одноклассники. И друзья. Я сегодня вечером приехал из провинции. Аргирис писал мне.
— Он писал тебе?
Космасу показалось, что господин Андрикос все еще не проснулся.
— Его нет дома? Он не живет с вами, господин Андрикос?
— Заходи, мой мальчик. На улице холодно. Заходи.
— Он не живет с вами?
— Не кричи. Входи. Входи и закрой дверь, сынок.
Когда они вошли в комнату, Андрикос поставил свечу на стол у кровати.
— Садись! Вон там садись, на стул. Передохни немножко и выслушай, что я тебе скажу.
Он хотел продолжать, но внезапно замолчал и грузно опустился на кровать. Потом взглянул на Космаса, опять попытался что-то сказать, но тут же бессильно положил руки на стол и опустил голову.
— Сегодня минуло десять дней. Десять дней, как он умер. Мы похоронили его ночью, словно собаку… Виноваты мы или нет, суди сам.
II
Космас лежал на диване рядом с кроватью Андрикоса.
Андрикос уже спал. Он храпел, и огонек свечи, стоявшей на столе, дрожал и извивался, будто убегая от преследования. Космас вышел во двор.
Было темно и знобко. Космас ощупью поднялся по лестнице и немного постоял, выжидая, когда глаза привыкнут к мраку. Запрокинув голову, он различил высоко-высоко над собой четырехугольник неба, усеянный частыми звездами, казалось, тоже дрожавшими от холода.
Кругом поднимались темные стены. Немного в стороне от лестнички, спускавшейся в подвал Андрикоса, виднелась железная винтовая лестница, прижавшаяся к стене; конец ее исчезал в темноте. Космас присел на ступеньку.
Он чувствовал, как ночной холод пробирает его до самых костей, но возвращаться в подвал не хотелось. Он закутался поплотней и попробовал собраться с мыслями.
Всякий раз, когда в его памяти вставал Аргирис, Космас вспоминал его улыбку. Умные глаза Аргириса были окружены лучиками морщинок, отчего он всегда казался веселым. Однако среди друзей Космаса не было ни одного, которому пришлось бы столько перестрадать. Когда Аргирису исполнилось три года, мать его убежала с каким-то железнодорожным служащим. Мальчика приютила тетка — акушерка Кассандра. Поэтому в школе Аргириса прозвали «акушеркой». Был он кротким и мягким — совсем не под стать дикой ребячьей вольнице. Шесть лет Космас и он вместе проучились в гимназии. Но все эти годы Аргириса будто и не было. О нем вспоминали редко, лишь в те минуты, когда хотелось посмеяться или когда возникала нужда в его математических способностях. Только это достоинство признавали за ним ученики и учителя. Никому не приходило в голову, какая сильная душа скрывается в этой болезненной фигурке. Событие, которое сделало их лучшими друзьями, произошло позже.
Шел второй день войны с Италией, 29 октября. Рано утром над маленьким городком появились самолеты. Ученики приняли их за греческие, высыпали во двор, стали махать платками и фуражками. Но вдруг один из самолетов отделился, сделал круг, снизился и сбросил две бомбы.
В тот же день около полудня по улицам пронесся крик: «Итальянцы!» Все наперебой говорили о том, что час назад в море показались военные корабли и высадили десант. От моря до города всего час пути, так что итальянцы могли нагрянуть с минуты на минуту. Женщины хватали детей и бежали в поле. С ними бежали и многие мужчины.
Но большинство, проводив жен и детей, собралось у мэрии. Мэр города скрылся. Исчез и начальник полиции. Мужчины требовали, чтоб им выдали оружие. Кое-кому удалось раздобыть старые одностволки, остальные вооружились ножами. Потом взломали магазин на площади и забрали там охотничьи ружья и порох. Дверь выломал священник, до этого трижды с распятием в руке тщетно вызывавший хозяина. Мужчины распределили оружие и стали строиться по отрядам. Послали за майором запаса Папафилисом, но майор заявил, что сопротивление бесполезно. Тогда его отправили домой и выбрали сразу трех командиров — священника, члена муниципалитета и рабочего с холодильного завода.
Отец Космаса в это время болел, но все же встал с постели и, взобравшись на стул, вытащил из щели в стене одностволку. Она была завернута в тряпку, покрытую толстым слоем пыли и паутины. Там же были спрятаны восемь зеленых от плесени патронов. Космас тоже хотел пойти с отрядами. Он вспомнил, что у соседа, старого учителя, — какой-то его предок участвовал в революции 1821 года{[2]} — на стене висят крест-накрест два ружья и ятаган.
Едва Космас подошел к дому и потянулся рукой к дверному молотку, как дверь отворилась и появился Аргирис. В руках у него было одно из ружей учителя. «Пойдем!» — сказал он Космасу. Но Космас зашел в дом за вторым ружьем. Учитель держал ружье на коленях и был готов к обороне. Выслушав Космаса, он встал и снял со стены ятаган. «Возьми, — сказал он, и голос его дрожал еще сильнее, чем руки, — и когда ты столкнешься с итальянцами, вспомни, сын мой, что этот ятаган носил у пояса старый Бурнас!» Космас впервые слышал о старом Бурнасе, но с трепетом взял заржавевший ятаган и бросился на улицу. Вместе с Аргирисом они побежали к морю.
С тех пор они стали друзьями. Ружье и ятаган они вернули учителю вечером того же дня: слух о военных кораблях оказался ложным. Но нескольких часов тревоги и смятения было достаточно, чтобы Космас открыл в Аргирисе то, чего не смог угадать в нем за все шесть лет учения, сидя с Аргирисом в одном классе и за одной партой.
В конце ноября они тайком уговорились уйти добровольцами на фронт. Первую попытку предприняли в начале декабря. Им удалось забраться в товарный вагон, но не успели они доехать до ближайшей станции, как железнодорожники обнаружили их и немедленно высадили. Потерпела неудачу и вторая попытка — уехать на автобусе, курсирующем до Патр. Водитель не только не посадил их, но и разгадал их тайну, и кое-что дошло до ушей Кассандры. Нужно было торопиться. На 27 декабря был назначен отъезд добровольческих отрядов в Лариссу. Эту возможность нельзя было упустить.
В ночь под рождество умер отец Космаса.
Аргирис уехал один.
Первое письмо от него Космас получил весной. Аргирис находился в Трикала, в военном госпитале. Бесчисленные страницы письма рассказывали о его приключениях. Он все-таки добрался до линии фронта. Его зачислили в запасную роту, потом он попал на передовую, получил ранение в бедро. Теперь рана заживала, и врачи собирались отправить его домой. Однако сам Аргирис рассудил иначе — он решил уехать в Афины.
Последнее письмо Космас получил из Афин в августе, через четыре месяца после начала оккупации. Аргирис работал в театре помощником механика сцены и мечтал стать режиссером. Он звал к себе Космаса. Если Космас приедет, работа для него найдется.
Уехать Космас не решался. Смерть отца связала его по рукам и ногам. «Мне стыдно, — писал он Аргирису, — при мысли о том, что я, взрослый мужчина, все еще сижу на шее у матери, которая превратилась в придаток своей машинки. Мы все распродали… Я только о том и мечтаю, чтобы найти какую угодно работу и хоть немножечко помочь ей. Я не могу ее покинуть. Мне трудно даже отлучаться из дому, я боюсь оставлять ее одну. У нее очень больное сердце…»
Отец и мать не были суеверными людьми. Как-то цыганка нагадала им, что они доживут до глубокой старости и умрут в один и тот же год. Покойный отец смеялся над этим пророчеством, но часто вспоминал его, чтобы поднять дух жене и сыну: «Гадалка нагадала мне, что я доживу до ста лет. И мы с тобой, жена, умрем вместе, в один и тот же год». Цыганка ошиблась на полвека. Отец не дожил до пятидесяти. Но второе пророчество не сошлось всего на несколько дней. Мать Космаса умерла в начале января, через год и девять дней после смерти мужа. Космас увидел ее недвижно склонившейся над машинкой. На столе стоял приготовленный для него обед: он был накрыт тарелкой и еще не остыл, рядом с солонкой лежали два куска кукурузного хлеба, прикрытые от мух полотенцем…
* * *
Моросит дождь. Какие-то люди поднимают гроб. Впереди семенит священник, за ним бегут босоногие ребятишки с крестами в руках. Спрятавшись под зонтик, запевает певчий. За пеленой слез и дождя все кажется тусклым и темным.
В тот день Космас и его мертвая мать навсегда покинули дом. Назад Космас уже не вернулся. Когда провожавшие стали расходиться с кладбища, прибежал запыхавшийся сосед: за Космасом приходили итальянцы. Утром в городе произошли аресты, были схвачены человек десять гимназистов, друзей Космаса: в новогоднюю ночь они собрались у одного из товарищей на дружескую вечеринку и засиделись до самого рассвета, пели национальные песни, произносили пылкие речи, ругали итальянцев и мечтали о победе греков.
* * *
Мартовским вечером на маленькой станции километрах в сорока от городка Космас ожидал поезд. Вагоны были переполнены, люди гроздьями свисали из тамбуров. Кое-как ему удалось забраться в окно.
В Коринфе, стоя в очереди на контроль, Космас почувствовал на себе чей-то взгляд. Он поднял глаза — на него смотрела маленькая женщина в черном.
Космас продвигался к контролю, она возвращалась. Два людских потока текли навстречу друг другу по узким коридорам, разделенным низкой дощатой перегородкой.
Они поравнялись.
— Космас? — спросила женщина, слабо улыбнувшись.
— Да. А вы, госпожа…
Женщина вздохнула.
— Горе мне! Неужели ты не узнал меня? Я госпожа Евтихия…
Боже мой! Госпожа Евтихия! Женщина-гигант, которая не могла пролезть ни в одну дверь. Когда-то госпожа Евтихия была учительницей Космаса. У нее был муж по имени Перикл, тоже настоящий гигант. В городке их окрестили «Титаник» и «Куин-Мэри».
— Как вы поживаете, госпожа Евтихия?
Она покачала головой. На глазах у нее были слезы.
— Как себя чувствует твой отец, дитя мое?
— Он умер, госпожа Евтихия.
— Не плачь! Я тоже потеряла своего Перикла… Ну, а твоя мать?
Космас не ответил.
— Бедняжка ты мой, крепись!
Евтихия приглушенно заплакала. И так, вся в слезах, еле волоча свои корзинки и стараясь не упасть под напором толпы, она все же ухитрилась достать маленький мешочек и передать его Космасу.
— Возьми, — сказала она.
Людское течение уносило ее все дальше и дальше.
— Там изюм. И послушай, родной мой: когда приедешь в Афины, постарайся встретиться с моим Феодосисом. Он служит в полиции, в первом участке.
— С Феодосисом?
— Да, повидайся с ним… — Ее голос потонул в общем гуле.
* * *
Поезд, как усталый дракон, тяжело подползал к Пелопоннесскому вокзалу. Смеркалось.
Космас стоял в тамбуре — мимо проплывали погруженные в темноту дома. Он с волнением пытался угадать, что скрывается за стеной этих домов, каков он, этот незнакомый город, огромный, молчаливый и загадочный.
Паровоз взревел, как раненое животное. Где-то вдалеке откликнулась сирена. Космасу она показалась ревом голодного минотавра. Таким представился ему город в этот первый вечер.
* * *
Паровоз дал еще один гудок. Пронзительно заскрежетали колеса.
III
Отец был маленький бледный человек, всегда утомленный жестокими приступами, но неизменно спокойный. У него болел желудок, и лучше всех средств помогал ему нагретый кирпич, Космас научился ухаживать за отцом. И когда тот в приступе боли падал на кровать, он шел к очагу, клал кирпич в огонь, а затем, обернув полотенцем, подавал его больному.
Большую часть времени отец проводил в постели. Из-за болезни ему пришлось оставить место писаря в мэрии, где он прослужил четверть века. После долгих хлопот удалось добиться государственной пенсии, которая и составляла единственный доход семьи. Если не считать приработков матери, проводившей дни и ночи за швейной машинкой.
Во время приступов мучения отца были невыносимыми: глаза наливались кровью и окаймлялись черными кругами, лицо становилось желтым, как воск, волосы слипались от пота. Вместе с отцом страдали мать и сын.
Кроме боли отца терзала тревога за судьбы близких. И прежде всего за сына. Все надежды он возлагал на аттестат зрелости. Только бы сыну удалось окончить гимназию, и тогда он отправит его к господину Теодору.
Господин Теодор! Для семьи он давно стал своим человеком, хотя никто, кроме отца, не был с ним знаком. История этого знакомства рассказывалась и пересказывалась много раз.
Отец был отличным рассказчиком. В особенном ударе он бывал по вечерам, когда боль утихала. За окном льет дождь, в камине горит огонь, в трубе завывает ветер и наполняет всю комнату дымом, светит прикрепленная к стене керосиновая лампа с разбитым стеклом, мать вяжет или шьет. Космас, ловко орудуя щипцами, воюет с огнем. Отец погрузился в их единственное кресло. Такие вечера были самыми счастливыми для семьи. Если б не они, как бы мог Космас понять, зачем люди выбиваются из сил, чтобы строить дома, заводить семьи, детей?
Истории отца были историями войн. Он надел форму в 1910-м и сбросил ее в 1922-м, Начал с ущелья Сарандапороса, дошел до Афьона-Карахисара{[3]}, последний патрон израсходовал в Смирне. Ему довелось разговаривать с королем Константином XII. («Почему, сержант, твой взвод идет вразброд?» — «Теснина, ваше величество!» — «Это голова у тебя тесновата!..» Вероятно, его величество не знал, что полчаса назад я потерял половину солдат и четыре пальца левой руки.) Не раз видел отец и «эту бездарь» Венизелоса{[4]}, на македонском фронте служил под командованием капитана В., которого несколько лет спустя ему пришлось конвоировать в военный трибунал{[5]}.
С господином Теодором отец познакомился накануне битвы в ущелье Крезны.
— …Был я в тот вечер дежурным по полку. Только-только принял дежурство от Дионисакиса Маврикоса, да сопутствует ему удача! Он служил в третьей роте, у капитана Милиаресиса. Стояли мы тогда в деревушке, было там домов сорок. Наверху расположился полковник Буласакос, глаза у него как у волка, бог его простит, вот как сейчас его помню, убили его эпистраты{[6]}. Он стоял за Венизелоса, но хороший был человек и настоящий патриот. Так вот, наверху жил полковник, а внизу несли дежурство по полку сержанты. На другой день нам предстояло ударить по ущелью. Приказ держался в секрете, но я уже знал о нем от Вангелакиса Кацаса, он был адъютантом майора Эвангелудиса. Пришел ко мне бедняга Вангелакис — сейчас он в Салониках, женился на еврейке и открыл гостиницу, — так вот, пришел он, бог ему поможет, ко мне в палатку и говорит: «Аристидис, давай поцелуемся, завтра будет бой, а мне приснился дурной сон. Я тебя вот о чем попрошу. Было у меня несколько золотых, и отдал я их в долг нашему земляку Галанису. Боюсь, как бы чего не вышло, — ведь золотые я берег для сестры Тасулы. И если — тьфу-тьфу, не сглазить! — случится беда, позаботься, чтобы деньги попали в руки Тасулы». Плохо истолковал свой сон Вангелакис. В ущелье Крезны погиб Галанис — упокой господь его душу! — и с ним пропали золотые.
Ну вот, только я принял дежурство, смотрю — входит ко мне солдат, одет, друзья мои, с иголочки. Будто с витрины сошел. Чистенький такой, наутюженный… «Осмелюсь доложить, господин сержант, солдат Марантис Теодор!» — «Марантис… Марантис? — говорю я. — Известная фамилия». — «Да, говорит, это фамилия министра!» Тьфу ты, черт! Беру я направление, читаю. И в самом деле, посылают его, Теодора Марантиса, в наш полк. Вот история. «Ну что ты будешь здесь делать? — говорю я ему. — Да ты знаешь, что такое фронт? Да видел ли ты хоть раз в своей жизни вошь?» — «Меня послали, господин сержант!» — «Кто?» Вот тут Теодор и рассказал мне, как он сюда попал. Служил он в генеральном штабе адъютантом генерала. Неделю назад приехал туда новый начальник, сторонник Венизелоса до мозга костей. Его брат подрался в парламенте со стариком Марантисом. И первым же приказом начальник отправил Теодора на фронт: поди, дескать, узнай, почем там фунт лиха, и пусть отец твой тоже узнает, как пускать в ход палку. «Ну и что мы теперь, спрашиваю, делать будем?» А что он мне может ответить? Он тут все равно что рыба на суше! «Ну ладно, говорю, ночуй сегодня здесь, а завтра я представлю тебя штабному офицеру». Сел он, зажег сигару, курит. Жалко мне его стало. Ну что толку от таких людей на фронте? Другое дело мы, народ привычный: и солнцем нас пропекло, и северные ветры задубили нашу кожу. Посидел я еще немного, привел в порядок бумаги и собрался обойти караулы. Увидел Теодор, что я поднялся, и тоже встает. «А где я буду спать, господин сержант?» — спрашивает он меня. «Ложись вон там, в углу, да и спи на здоровье». — «На полу?» «Гм, — думаю я про себя, — если б у каждого солдата была хоть завалящая, гнилая доска, чтобы прикорнуть на ней…» «Нельзя ли, спрашивает, господин сержант, найти кровать в каком-нибудь доме? Я могу заплатить!» — «Оставь-ка лучше при себе свои деньги, друг мой, — говорю я. — Посиди тут, подожди». Пошел я к Дионисакису Маврикосу, разбудил его, уговорил уступить свою кровать. Что с ним было делать, с таким никчемным?
Захожу я за ним утром, чтобы представить его штабному офицеру. «Господин сержант, — говорит мне Теодор, — все мои надежды на вас. Вы отнеслись ко мне как отец. Я знаю, что сегодня вечером полк вступит в бой. Нельзя ли не представлять меня штабному офицеру? Я никогда не забуду вам этого, господин сержант, ни я, ни мой отец. Вы получите все что угодно!» — «Что мне угодно? — говорю я ему. — Да мне ничего не нужно. Жаль мне тебя, пропадешь ни за что ни про что. Ну ладно, штабной офицер мой приятель». А штабным был у нас Фонтас Дакалос, турки убили его потом, при Иконио. «Если удастся, я с ним поговорю. А ты давай-ка извести своего отца, чтоб он поскорее забрал тебя отсюда». — «Спасибо, говорит, спасибо!» И — святой Георгий свидетель — целует мне руки! «Не пройдет, — говорит, — и двух-трех дней! Я уже послал отцу срочную телеграмму!» Поговорил я с покойным Фонтасом. Он согласился, но потребовал денег — водился такой грешок за покойником. Вот так и спасся бедняга Теодор. Прошло несколько дней, и приказом генерального штаба его срочно перевели в Афины. Прислал он мне оттуда открытку, — жаль, потерял я ее в бою вместе с рюкзаком. Подписал ее, как помню, и сам министр, господин Лампрос Марантис. Написал собственноручно: «И я приветствую тебя, мой славный сержант», — а внизу подписался…
Ну вот и думаю я, друзья мои: что было бы, если б мы с Фонтасом не спасли тогда Теодора? Полк потерял бы никуда не годного солдата, а государство — большого политика. Теодор стал министром в правительстве Пангалоса{[7]}. Потом он дважды был министром в правительстве Народной партии{[8]}. В тридцать третьем году я приехал в Афины показаться врачам и захотел повидаться с ним. Пошел в министерство. «Вряд ли он меня помнит», — думал я, но он, как только услышал мое имя, сказал секретарю: «Передай Аристидису, чтобы пришел вечерком в партийный клуб». Секретарь дал мне адрес. Я пошел туда вечером, но Теодора не застал. Смотрю, подъезжает секретарь на машине. «Прости, Аристидис, — говорит он, — но министра вызвал к себе господин президент. Министр просил тебя прийти завтра в министерство». Но я должен был уехать в тот же вечер. «Он будет огорчен, если не увидится с тобой». Но я все-таки уехал.
Отец больше не ездил в Афины и так и не повидался с господином Теодором. Но они обменялись несколькими письмами. Каждый раз, когда приближались выборы, господин Теодор вспоминал Аристидиса («Дорогой Аристидис, здравствуй!»). Сам он не выдвигал своей кандидатуры в провинции, но письмецо приносил местный представитель партии, адвокат с закрученными усами, господин Трихилос.
Потом наступила диктатура{[9]}, и господина Теодора отправили в ссылку. «Теодор, как видно, социалист, — говорил отец. — Он стоит за новые идеи». Космасу тоже казалось, что господин Теодор социалист, в библиотеке мэрии он нашел его книгу «О чертах христианского социализма, бытующих у некоторых племен Латинской Америки».
В тот вечер, когда Космас, отправляясь в столицу, садился в поезд, он не думал о господине Теодоре. Он не думал о нем и в те минуты, когда впервые ступил на землю голодного города.
Однако ночью, ворочаясь на диване Андрикоса и с тревогой размышляя о неизвестном будущем, он вспомнил о Теодоре. Кто еще в этом необъятном, чужом, замученном городе мог подать ему руку помощи в страшный час одиночества?
* * *
Андрикос где-то откопал телефонный справочник, и они стали его перелистывать. Нашли двух Марантисов, у обоих одинаковые имена и профессии: «Теодор Марантис. Адвокат».
Один из Марантисов жил на улице Фемистокла, другой — на улице Илии.
Едва рассвело, Космас отправился к другу своего отца.
IV
На улице Фемистокла ему открыла пожилая женщина в наброшенном на плечи мужском пальто.
Вид у нее был недовольный, и прежде чем объяснить причину своего визита, Космас несколько раз попросил извинения. Женщина посторонилась, давая ему дорогу.
— Господин Марантис немного болен… — И попросила не задерживать его слишком долго.
Они поднялись по лестнице и вошли в темную, холодную гостиную, где стоял одинокий столик и два-три ободранных кресла. Космас обернулся к женщине:
— Простите, я не ошибся? Господин Марантис, бывший министр?
Она не успела ответить. Внутренняя дверь отворилась, и перед Космасом появился мужчина. Высокий, в длинном халате. Старик.
— Я бывший адвокат, — сказал он и рассмеялся. — Прошу! — И нарочито медленным, изысканным жестом пригласил Космаса пройти в кабинет.
Космас робко пробормотал, что ищет господина Марантиса, то есть другого Марантиса, но не знает адреса, а по телефонному справочнику…
— Понимаю, — прервал адвокат его оправдания. — К сожалению, не в первый раз мне по несчастному совпадению фамилий выпадает честь встречать нежданных посетителей.
Он говорил, а его взгляд настойчиво изучал гостя.
— Из провинции? — внезапно спросил он.
— Теодор, — сказала женщина, стоявшая позади Космаса, — в дверях холодно…
— Совершенно верно, Анна, — адвокат не тронулся с места, — в дверях холодно, зато в комнате…
— Но здесь сквозняк!
— Прошу вас, мой юный посетитель! Здесь нам запрещают разговаривать. Проходите!
— Но я…
— Прошу вас. Целый век мой кабинет не видел посетителей. Сделайте одолжение.
Кабинетом служила полупустая комната: тяжелый черный стол, два кресла, такие же, как в гостиной, древний диван в углу. На подоконнике и на полу беспорядочные груды книг и пожелтевших от времени газетных пачек.
— Достоуважаемый родитель моего достоуважаемого родителя, — неожиданно начал адвокат, медленно и раздельно произнося каждое слово, — имел счастье в течение сорока лет служить Фемиде. После его смерти это служение продолжал мой достоуважаемый отец, а потом и я, однако мне оно счастья не принесло. Садитесь, дорогой мой.
Космас осторожно опустился на диван. Под тяжестью его тела диван отчаянно заскрипел и стал угрожающе проседать. Космас поднялся и примостился на краешке кресла.
— Ваше поведение, мой юный друг, — тем же тоном продолжал адвокат, — позволяет мне сделать вывод, что вы еще очень далеки от того, чтобы правильно оценивать истинное положение вещей. Etiam periere ruinae{[10]}.
Космас не уловил смысла слов и вопросительно посмотрел на адвоката.
— То, что вы видите в этой комнате, — последние свидетельства былого величия. Я не стал отдавать эти реликвии, и, конечно, не потому, что они представляют собой археологическую ценность. Нет, причина тут другая: они уже никуда не годятся. Разве что в печку, для которой мы пока используем более дешевое топливо — бумагу. Вы курите?
— Нет.
— Жаль.
Он сел в кресло у стола.
— То, что вы видите здесь, мой друг, — голос адвоката вдруг потерял напыщенность, зазвучал глухо и надломленно, — это все, что у меня осталось. Больше ничего нет. Да, пожалуй, и не нужно.
Космас не нашелся, что сказать. На полу он различал следы вынесенной мебели, на старых, выцветших обоях выступали темные пятна от висевших здесь картин. Уцелела только одна. На ней была изображена молодая женщина с очень тонкой талией, в старинной греческой одежде.
— Это бабушка, — сказал адвокат, не оглядываясь на портрет, висевший за его спиной, — работы Гизиса{[11]}, он был близким другом моего деда. Там, — он указал на противоположную стену, — еще позавчера висело другое полотно того же мастера. Портрет моего деда.
Он покачал головой и закончил со скорбной улыбкой: — Мы пустили его с молотка! Позавчера мы с женой пошли на рынок. Я с портретом деда, она с ножами и вилками. Ножи и вилки, дорогой мой… — Он сделал маленькую паузу и продолжал, понизив тон: — Ножи и вилки мы продали вдвое дороже, чем деда.
Деланно рассмеявшись, адвокат забился в сильном приступе кашля.
— Вы давно уже здесь?
— Я приехал вчера.
— Это сразу видно. Вы как бы олицетворяете провинциальный достаток. Из Фессалии?
— Из Пелопоннеса.
— Если мне не изменяет память, мой однофамилец выдвигал свою кандидатуру в Фессалии.
— Не знаю, — ответил Космас, — я с ним незнаком. Господин Марантис был другом моего отца.
Адвокат с минуту помолчал, тихо постукивая пальцами по столу, потом спросил:
— И надолго вы намерены остаться здесь?
— Как вам сказать… Я уехал с таким чувством, будто навсегда покидаю родные места или по крайней мере не скоро туда вернусь…
— Очень горькое чувство. Оба помолчали.
— Не знаю, какие обстоятельства заставили вас принять это решение. Очевидно, очень серьезные обстоятельства. Поступок ваш нельзя назвать иначе, как отчаянным. У вас здесь родственники?
— Нет.
— Ваши родители живут в провинции?
— Видите ли… Их уже нет на свете…
— Понимаю. Очевидно, вы пришли к такому решению потому, что здесь у вас есть ангел-хранитель?
Космас улыбнулся.
— До сих пор я никогда не рассчитывал на постороннюю помощь. Но отец всегда говорил, что господин Марантис непременно поможет мне в трудную минуту.
— Все мы переживаем критический период, — несколько загадочно сказал адвокат, — сейчас ни один человек не может обойтись без помощи. А тот, кому может оказать помощь не простой человек, а земной бог, тот может считать себя редким счастливцем.
Адвокат перешел на прежний тон, и Космас не мог понять, где он иронизирует и где говорит серьезно. Впрочем, вскоре он замолчал, а когда заговорил вновь, голос его звучал искренне и взволнованно:
— Как вы сами видите, дорогой мой, я быстрым шагом приближаюсь к Ахерузии. Но поверьте, душа моя, моя мятущаяся душа все еще не находит себе покоя. Ее агония куда более мучительна, чем ваши страдания. Потому что я ищу не убежища, а выхода, не покровителя, а союзника и наставника. Да, я ищу наставника, который указал бы мне путь к спасению.
И хотя для Космаса смысл его слов по-прежнему оставался неясным, здесь, в холодном и пустом кабинете, они звучали веско и значительно.
— Свобода придет! Свободолюбивый дух народов бессмертен. Но мне, juvenis{[12]}, уже не видать полета гордого орла свободы. О, если бы я мог услышать в своей душе голос, предвещающий его приближение, если бы я мог ступить на путь, который приведет нас к свободе! Я прислушиваюсь — и не слышу, ищу — и не нахожу! Наши души, друг мой, опустошены, съежились, как вытряхнутые мешки. Как нам поднять свой павший дух, как расправить заново свои души? Кого мы позовем на помощь, на кого возложим надежды? Нужны воины и вожди, но где их найти? Они существуют, но я их уже не увижу. Увидите их вы. Произойдет одно из двух: либо окрепнет ваше зрение, либо рассеется мрак. Я не знаю, где они, но одно я знаю твердо: они не там, куда вы направляете свои шаги.
В дверях появилась женщина и посмотрела на адвоката с молчаливым укором.
— Мы заканчиваем, Анна! — сказал ей адвокат, но тут же пересел в другое кресло, поближе к Космасу.
— Как только выйдете из моего дома, поверните направо. Пройдете до конца улицы, и там первый же полицейский укажет вам улицу Илии. Улица Илии, шесть. Там вы найдете лукавого змия, которого ищете. Но скажите мне чистосердечно, зачем вы идете к Марантису?
— Может быть, потому, что не знаю его, — проговорил Космас.
Адвокат обрадовался:
— Именно поэтому! Я уверен!
— Но, господин Марантис, неужели он на самом деле такой дурной человек?
— Он не дурной, — ответил адвокат, — он подлец.
— Он ваш родственник?
— Не в этом дело. К сожалению, мы не просто однофамильцы — мой и его отцы имели общую мать, общего отца. Но, к счастью, мой отец занимался наукой и адвокатурой, а его с головой ушел в политику. Я последовал примеру своего отца. Не знаю, может быть, я и свернул бы с этого пути, если б не имел несчастья родиться в эпоху, когда политика, дорогой друг, подобна обитательницам улицы Сократа{[13]}.
— Стало быть, ваши чувства объясняются вашим отрицательным отношением к политике…
— Ваш силлогизм, — прервал его адвокат, — неверен, ибо базируется на ложных посылках. Я вовсе не отрицаю политики, что же касается моего двоюродного брата, то я его ненавижу. Отрицать политику было бы нелепо. Функции общественного организма так же, как и человеческого организма, весьма разнообразны: одни из них приятны, другие способны вызвать отвращение. Попытайтесь отрицать хоть одну из этих функций, и вы убедитесь, что это совершенно нереально. Нет, дорогой мой, сила человека в том и заключается, что он способен осмыслить свои чувства. Но оставим в стороне политику, она чувств не любит. Я уже сказал вам, что ненавижу двоюродного брата. Это чувство еще очень свежее, оно родилось в годину нашего общего национального бедствия. Но поверьте мне, никогда я не был так твердо убежден в правильности моих суждений, как на этот раз. Я мог бы развивать вам эту тему в течение нескольких часов, что, конечно, доставило бы мне несказанное удовольствие: посвятив более пятидесяти лет моей жизни защите уголовного права в переполненных залах судов, я в последние годы обнаружил, что моя аудитория резко сократилась. Увы, она сократилась до единственного, верного мне до могилы слушателя — моей супруги. Да, мой юный друг, тот, о котором мы говорим, совершил преступление. Час расплаты за него настанет с первыми проблесками свободы! Finis coronat opus.{[14]} Преступление это — предательство. Наказание за него — смерть!
— Возможно ли? Ведь ваш двоюродный брат социалист!
— Прежде всего прошу вас забыть о родстве, которое связывает меня с этим иудой. Во-вторых, я, к сожалению, не располагаю доказательствами несовместимости социализма и предательства. И, наконец, Марантис не социалист. Признаюсь, мои знания по разделу «социализм» очень и очень убоги. Если я не ошибаюсь, идеал социализма — борьба за благо человечества. Какое же отношение может иметь к таким идеалам иуда, который в столь критический для всей нации момент протягивает руку ее врагу? Простите! Lapsus linguae{[15]}. Он не сотрудничает с врагом, о, он не настолько глуп! Он сотрудничает с сотрудниками врага. Преступление, дорогой мой друг, совершается в глубокой тайне. Но, — адвокат положил ладонь на плечо Космаса, — я заговорил вас. По выражению ваших невинных глаз я вижу, что в ваше юное сердце проник яд, который источает моя старая и злая душа. Не верьте ни одному моему слову. Верьте своим собственным суждениям и чувствам. Но я убежден, что, постучав в ту дверь, вы вспомните все, что услышали здесь.
— Господин Марантис, я даю вам слово, что никогда не постучу в ту дверь.
— Напротив, вы должны пойти. Пусть у вас сложится собственное представление об этом человеке. Возможно, что я сказал вам неправду или, в лучшем случае, не сказал всей правды. Omnis homo mendax{[16]}. Но из того, что я вам сказал, я не возьму назад ни одного слова. Я уже слишком стар для того, чтобы подчинять свою совесть страху. Кроме того, у вас хорошее лицо, мой юный друг, лицо честного юноши. А я считаю, что честность и молодость — это как раз те добродетели, в которых больше всего нуждается сегодня наша несчастная страна. Вам предстоит большой и трудный путь, и вы начнете его с познания зла. Идите и не пугайтесь греха. Прежде чем бороться с ним, его нужно познать. Ite, missa est{[17]}.
V
Улица Илии. Над подъездом старинного особняка ясно виден № 6. Это желтый двухэтажный дом с высокими железными воротами. Двор вымощен белыми и черными плитами, как шахматная доска.
Дверь открыта. Молодой мужчина сидит на стуле и читает газету. Увидев Космаса, он встает.
— Кого вам угодно, господин?
— Господина Марантиса…
— Он пригласил вас?
— Нет. Я только вчера вечером приехал из провинции.
— А… Подожди минуту. Вот здесь. Проходи, я доложу господину секретарю.
Космас вошел в просторный холл, стены которого были выложены разноцветной мозаикой. Он насчитал восемь дверей, старинных, тяжелых, украшенных тонкой резьбой. В углу стояло большое зеркало, его поддерживали две черные кариатиды. В другом углу огромная печь из белого металла. Ее никогда не топили. Господин Марантис получил ее в подарок из Сербии. Космас слышал об этом от отца.
— Пройдите, прошу вас.
Одна из дверей полуоткрылась, и в ней появился высокий лысый господин в очках. Другой господин, с газетой в руке, прошел мимо и занял место на стуле.
— Сюда, пожалуйста! — улыбнулся высокий господин. — Из провинции?
— Да. Господин Марантис?
— Нет. Проходите.
Космас вошел в квадратный зал. Тяжелая, развесистая хрустальная люстра спускалась так низко, что почти касалась большого круглого стола. Вокруг сидели шесть человек. Космас внимательно оглядел их: кто же из них господин Теодор?
— Министр сейчас занят, — сказал высокий в очках. — Присаживайтесь. Он, наверно, не знает о вас…
— Я приехал лишь вчера вечером.
— Поездом? — спросил худой и бледный человек, сидевший за столом напротив Космаса.
— Да, поездом.
— Линия Лехека-Патры действует? — Он не стал ждать ответа и тотчас же повернулся к соседу: — Значит, линия в порядке…
— Вы желаете увидеть министра сегодня? — с улыбкой спросил секретарь.
— Да. Если это возможно…
— Одну минуту.
Он пригласил Космаса к своему бюро.
— Обычно министр заранее назначает часы приема, Именно поэтому я не могу… э… обещать вам. Сначала пройдут эти господа, им уже назначена аудиенция на сегодня, а потом, если останется время… Ваша фамилия?
Из бесчисленных блокнотов, которые лежали на столе, он выбрал один и начал писать.
— Обычно министр принимает до двенадцати, но сегодня он очень занят. Именно поэтому я не могу… э… Но он, безусловно, примет вас послезавтра. Министр принимает по понедельникам, средам и пятницам. Запишите, если вам угодно, номер телефона и позвоните мне завтра, я скажу вам… э… в котором часу он вас примет.
Космас начал шарить в карманах, разыскивая карандаш и бумагу. Его мучило желание как можно скорее выбраться отсюда, и предложение секретаря он принял с облегчением.
— Однако если вы не торопитесь, то подождите немного…
— Нет, пожалуй.
— Подождите, подождите. — Секретарь встал. — Эти господа пришли по общему вопросу. И вполне вероятно… э… что вам удастся… Если даже он и не сможет вас принять, то назначит час аудиенции в пятницу.
Секретарь снова улыбнулся и торопливо вышел. Космас сел в углу неподалеку от бюро секретаря, Ему видна была вся приемная.
Одна сторона зала была сплошь заставлена книжными шкафами. Толстые тома в черных кожаных переплетах поблескивали за стеклом. Космас сидел слишком далеко и не мог прочитать золотые буквы, вытисненные на корешках. Он различал лишь номера томов. Очевидно, это были собрания сочинений, но какие именно, Космас так и не узнал, у него не хватило смелости подойти к шкафам. Ему казалось, что едва он переступил порог этого дома, как его язык, руки и ноги одеревенели.
Он заметил, что люди, сидевшие за столом, время от времени лениво поглядывали на него, но сам избегал смотреть на них и обозревал приемную. Стены были увешаны большими фотопортретами в золотых рамках. Космас узнал лишь двоих. Один был Панагис Цалдарис, объектив фотоаппарата запечатлел его, как видно, в час послеобеденной дремоты; второй — Димитриос Гунарис{[18]}. Покойный отец Космаса был одним из его восторженных почитателей. Он выучил наизусть несколько отрывков из предвыборной речи Гунариса и, вспоминая о нем, вставлял в рассказ полюбившуюся цитату: «Я стою среди вас как простой солдат, призванный вступить в священный бой…» Чаще всего он цитировал именно эту фразу и произносил ее с особым ударением на словах «простой солдат» и «священный бой».
Обращенный к нему вопрос вывел Космаса из забытья:
— Ну как там у вас дела?
Смуглое худощавое лицо, темные очки на ястребином носу, лихие усики, высоко приподнятые брови.
— Как вам сказать… — замялся Космас. — У нас голод.
— Голод! — Было видно, что ответ не удовлетворил худощавого человека. — Ну, а что еще? Меня интересуют люди. Что думает народ?..
— Господин полковник! — прервал его человек, спрашивавший Космаса про линию Лехена-Патры. — Почем будет масло в Каламате дней через пять?
— Дней через пять? Что-то около четырех бумажек.
— А инжир?
— Цены на инжир сравнительно устойчивы. Но я уже сказал вам, дело не в цене. Как перевезти — вот в чем вопрос!
— Не исключено, что нам уступят несколько вагонов.
— В таком случае проблема решена. Но дадут ли власти разрешение?
— С Команде Пьятца все уже урегулировано. Но вот удастся ли достать пропуск комендатуры и, главное, сопровождающих? Без них первый же немецкий сержант задержит наш товар.
— Однажды мы так уже погорели… Господин Алексопулос, наверно, помнит.
— Еще бы! Операция с изюмом…
— Вся беда в том, что Красный Крест хочет отдать эти вагоны народным столовым. Сейчас разгорелся настоящий бой. Комендатура обещает вагоны Красному Кресту, а Команде Пьятца — нам.
— Ну так что же? — раздраженно спросил полковник. — Что вы предлагаете, господин Куртис?
— У господина Павлопулоса есть блестящая идея, — ответил Куртис.
Павлопулосом оказался тот самый мужчина, который первым обратился к Космасу.
— Чего-чего, а идей у нас куры не клюют! Но в данном случае идеи у меня нет, все мои надежды я возлагаю на… — И Павлопулос протянул руку в сторону соседней комнаты.
— На Теодора? Вы хотите, чтобы Теодор обратился в комендатуру? — спросил секретарь, который только что вернулся в зал.
— Нет, дорогой Панос, — успокоил его Павлопулос, — ты меня не понял. Было бы глупо требовать такой услуги от министра. Но дело тут несложное: немецкая комендатура обещала вагоны Красному Кресту. Ну что ж, пусть он их и забирает. Только с одним условием: уполномоченными он сделает нас. А тут уж мы используем Командо Пьятца.
— Значит, вагонами придется поделиться с Красным Крестом? — вставил Алексопулос.
— А разве у нас есть другой выход? Иначе мы рискуем потерять все.
— Погодите, погодите! — вмешался секретарь. — Если вагоны дадут Красному Кресту, то он отдаст их столовым. И тогда… Нет, я не вижу смысла в вашем проекте.
— А между тем все очень просто, милый Панос! — сказал Куртис. — Нужно, чтобы кое-кто позвонил в Красный Крест, — и дело в шляпе. Вся загвоздка в том, чтобы обработать Красный Крест.
— Кто там из наших?
— Майор Папацонис! — воскликнул полковник. — Он служил у меня в полку.
— Есть тут еще один плюс, — вставил Павлопулос. — Команде Пьятца дает нам вагоны до Ахайи. А если удастся уладить дело с Красным Крестом, мы получим их до Каламаты.
— Давайте подытожим, что будем предлагать, — сказал Алексопулос.
— Как говорил Ненес. Через Красный Крест. Папацонис там держится крепко, — отозвался Куртис.
— За майора можно не беспокоиться, — снова вставил полковник. — Достаточно телефонного звонка или открытки от Теодора. К тому же я лично знаком с Папацонисом.
— Папацониеу тоже будет непросто. Еще не известно, сумеет ли он…
— Об этом не печалься, Мимис. Подбросим еще один кусок. Как говорится: «Там, где хватает еды на восьмерых, достанет и на девятого».
— Но есть и другая поговорка: «У семи нянек дитя без глазу».
— Не беспокойся. Они дадут нам полномочия, возьмут свою долю — и баста, в наши дела они лезть не станут. Половина вагонов достанется им. Могут перевозить в них, что их душе угодно, нас это не касается. Остальные вагоны наши, и мы тоже будем перевозить что нам угодно: инжир, масло, изюм. И отчета никому давать не будем.
Одна из дверей открылась, в зал вошли трое. Первый, мужчина невероятной толщины, с золотыми зубами, поздоровался с Павлопулосом.
— Аи да ловкач! — погрозил он пальцем. — Здорово ты меня надул!
— Скажите лучше, что нас обоих надули, господин Лампис.
— Не знаю, как тебя, а ты меня знатно обставил, это факт. До сих пор ни одному мошеннику не удавалось оставить меня в дураках.
Остальные с усмешкой следили за их разговором.
— Нет, клянусь, вы ошибаетесь, господин Лампис, пусть господин Куртис будет свидетелем!
— Ладно, верю. Ну, а чем мы займемся теперь?
— Наклевывается неплохое дельце в Пелопоннесе.
— Опять с изюмом?
— Нет, изюм невыгодный товар. Думаем заняться маслом. Шеф поможет?
— Послушай, Ненес! — уже серьезным тоном сказал толстый. — Не знаю, что именно приключилось тогда с этой проклятой партией, но сейчас нам подвертывается выгодная операция с македонским табаком.
— С табаком?! — воскликнул Куртис. — Так вы уже прибрали к рукам это дельце? Молодцы! Тут-то я и расквитаюсь с Кероглу, Он из кожи вон лез, чтобы заграбастать эту партию.
— Мы дали настоящий бой! — удовлетворенно сказал толстый. — Битва богов и титанов! Теодор целый час сражался по телефону!
— Смотрите, будьте начеку. Этот субъект без сопротивления не капитулирует.
— Ну, теперь он обезврежен! — выкрикнул кто-то из компании толстого. — У телефона был сам Хаджимихалис.
Куртис поднял руки:
— Министр? Тогда сдаюсь.
— Итак, — снова заговорил толстый, взяв под локоть Павлопулоса, — дело верное, и, главное, никакого шуму и риска. Перевозку берут на себя немцы. По рукам?
Ответа Павлопулоса Космас не расслышал. В дверях кабинета Марантиса появился секретарь.
— Вам придется немножко подождать, — сказал он, беря под руки полковника и Алексопулоса. — Телефоны взбесились с самого утра.
Толстый и его спутники отошли с Павлопулосом к книжным шкафам и завели разговор вполголоса.
Космас встал. Он хотел незаметно уйти. Но секретарь увидел его, подошел и обнял за плечи.
— Ну вот, все в порядке! — сказал он и засмеялся, подмигивая.
Космас не понял.
— Я зайду послезавтра, — сказал он. — Я позвоню…
— Не нужно, — сказал секретарь, садясь за свое бюро. — Я уже доложил… э… и, короче говоря, все в порядке.
Он торопливо набросал несколько строк на визитной карточке Марантиса и вложил ее в маленький, узкий конвертик.
— Отправляйтесь в Красный Крест и спросите там господина Папацониса. Передайте ему вот это… и все будет в порядке.
* * *
За железными воротами Космас приостановился и взглянул на конверт. Сбоку было напечатано: «Марантис, бывший министр, Илии, 6». Ниже секретарь написал: «Господину Папацонису, майору. Красный Крест».
С дальнего конца улицы волной катился ветер, увлекая за собой обрывки бумаги, окурки и пыль. Он подхватил и те клочки, которые бросил Космас, и со свистом унес их вместе с прочим мусором.
VI
Каждое утро Андрикос отправлялся на рынок. У него была своя тележка, но он не держал ее дома. В одном из тупиков улицы Афины Андрикос отыскал сарай, договорился с хозяином и оставлял там тележку на ночь. К нему примкнуло несколько таких же мелких торговцев. Утром они забирали тележки, а в конце недели платили хозяину сарая за постой.
Андрикос не брезговал никакой работой: продавал вещи соседей, покупал и перепродавал продукты.
Дом, где жил Андрикос, принадлежал предприятию, на котором он работал до оккупации. Здесь же жиля директор, несколько высших чиновников и какой-то военный. Все их имущество, начиная с чайных ложек и кончая кроватями и шкафами, прошло через руки Андрикоса и перекочевало на улицу Афины и к Монастыраки.
Этим утром предстояло продать вещи одной актрисы. Вместе с Андрикосом на рынок пошел и Космас.
Три платья, шаль, две скатерти с затейливым орнаментом. Актриса некогда была очень известна, много путешествовала, и теперь Андрикос ворохами носил на рынок ее платья, безделушки, украшения, продавал их. за бесценок или обменивал на горстку бобов.
Они пришли на рынок рано, когда торговля еще только начиналась. К зданию мэрии за ночь притащили несколько трупов. Трупы лежали возле подъезда, покрытые брезентом; кое-где высовывались то рука, то нога. Прохожие не обращали на них внимания. Неподалеку устроилась со своей тележкой женщина, продававшая триорофа{[19]}; рядом выстроились штукатуры — кто с лопатками, кто с кистями; в ожидании клиентов они стояли неподвижно, как статуи. Перед дверью расположился мужчина с корзинами. Он был раздражен тем, что его место оказалось занятым, и вступил в перебранку с человеком, высунувшимся из окна второго этажа.
— Наберись терпения, человек божий! — кричали сверху. — Сейчас приедут катафалки. Ну что еще мы можем сделать?
Мужчина суетился, нервно переставлял корзины и непрерывно ругался.
— Кому нужна ваша лавочка, раз вы даже похоронить не можете? Черт знает что, мертвецы валяются с самого утра…
Наконец он пристроил свои корзины и водрузил над ними кусок картона: «Пакупаю все».
— С него и начнем! — сказал Андрикос Космасу. Они подошли к пустым корзинам.
— Что покупаешь, сынок? — спросил Андрикос.
Мужчина все еще не мог успокоиться. Он что-то бормотал, поглядывая то на трупы, то на окна. Потом повернулся к Андрикосу:
— Чего тебе, старик?
— Я спрашиваю, что покупаешь.
— Все, хоть саму богородицу! А что у тебя?
— Шелковые вещички интересуют?
— Интересуют.
Андрикос взял из рук Космаса платье и разложил его на корзинах спекулянта.
— Надел бы ты его, что ли, старый хрыч, да и изобразил нам парочку-другую эдаких номеров, — сказал спекулянт, ощупывая материю. — Ну что ты мне суешь? Искусственный шелк, простым глазом видно.
— Когда шилось это платье, сынок, тогда еще не знали, что такое искусственный шелк, — спокойно возразил Андрикос.
— Может, ты еще скажешь, что оно из гардероба Анны Комнины{[20]}.
— Ну ладно. Сколько дашь за него, сынок?
— Только за платье?
— Пока за него. Сколько?
— Сначала назови свою цену!
— Давай прежде договоримся, чем будешь платить.
— Своими честными денежками.
— Деньгами?
— Так точно, ваша милость, денежками. А ты чего хочешь?
— Послушай, сынок, у меня еще два платья, шаль и две скатерти, все чистый шелк. За деньги я этого не отдам.
— Магазин платит только деньгами.
— Ну, тогда пойдем дальше! — сказал Андрикос, собирая вещи.
Спекулянт еще раз пощупал их.
— А твое слово? Ты-то чего хочешь?
— Полтора золотых за все.
— Немножко погодя, в августе. Когда поспеет пшеница. Понял?
— Пойдем дальше!
— Ну и проваливай, скотина!.. Эй, Аристарх! Хватит тебе глухим прикидываться! Когда уберете трупы? Какого черта?
Улица кипела народом. Люди и тележки смешались в одном шумном потоке, непрерывно катившемся по грязной дороге. Тележки следовали одна за другой; покупатели, продавцы, носильщики и хулиганы рвались вперед в поисках клиента или воровской удачи. У них были помятые, небритые, бледные лица, опухшие, водянистые и жадные глаза. В воздухе висел крик и невообразимая вонь. Асфальт под ногами скользкий, жирный, покрытый клочьями бумаги, раздавленным виноградом и плевками. Самую большую суматоху создавали носильщики. Они толкали свои тележки, заваленные мешками, бидонами, ящиками и кувшинами; то наезжали прямо на людей, то угрожающе кричали:
— Замара-а-а-ю! Задавлю!
Их крик, извещавший о приближении самодельной двухколески, слышался на каждом шагу. Однако надо всей этой пестрой массой людей, вещей и звуков поднимался и царил вопль покупателей:
— Покупаю! Покупаю!
Покупалось все, не продавалось ничего. Отовсюду доносились охрипшие, надрывные голоса:
— Куплю фасоль! Куплю мясо! Покупаю овощи, масло, табак, рыбу, лапшу, бобы, изюм, лекарство от чесотки, инжир, уголь, соль, спички, папиросы, курительную бумагу!
Те, у кого не хватало голоса, поднимали над головами куски картона, на которых было написано, что они хотят купить. Многие надписи лаконичны: «Покупаю все съедобное!»
— Тут все хотят купить, а кто же тогда продает? — спросил Космас.
— Да большинство продает, а не покупает, — ответил Андрикос. — А кричат, чтобы не нарваться на неприятности.
— Но у них нет ничего с собой.
— У каждого свой склад. Если удается поймать клиента, они ведут его туда. Многие просто хулиганы и бандиты, они заманивают людей на какой-нибудь пустырь, а там раздевают и грабят.
Они вошли в магазин. Андрикос поздоровался с хозяином и, не говоря ни слова, развернул на столе скатерть.
— Чья это сегодня? — спросил владелец магазина, не поднимаясь со стула.
— Розалии, дорогой Василакис!
Василакис изумленно покачал головой.
— Ай да Розалия, неистощима, как тысячеголовый дракон! — сказал он и рассмеялся. — Что она дала тебе на этот раз?
Опухшие веки его на секунду приоткрылись и снова упали, как бы изнемогая от усилия. Глаза у Василакиса были налиты кровью.
— Три платья, скатерти…
— Ладно, оставь. Поди на склад, возьми немного фасоли, масла.
— Пожалей ее, господин Василакис! Ведь это все, что у нее осталось.
— Вещам Розалии нет ни конца, ни края, уж я-то знаю это лучше, чем ты.
— Дай ей по крайней мере хоть один золотой, господин Василакис!
— Ну что я могу выручить за этот хлам? И так беру только ради Розалии. А ты еще толкуешь про золотой! Иди, говорят тебе, и возьми немного фасоли.
* * *
— Вот мерзавец! — сказал Андрикос, когда они вышли из магазина. — Боюсь, что придется нам снова вернуться к этому негодяю! А как не хотелось бы! И не потому, что сам рассчитываю что-нибудь перехватить, а просто жалко ее, бедняжку, ведь это и вправду ее последние вещи.
— Но чем же он торгует? — спросил Космас. — Полки совсем пустые.
— Он и душу свою продаст, предложи только денег побольше, — сказал Андрикос. — А насчет полок не удивляйся. Все сделки он заключает по телефону, а товар держит на складах. Этот Василакис до оккупации спекулировал на театре: начал билетером, а кончил театральным предпринимателем. В люди его вывела Розалия, добрая душа. А этот Ставиский {[21]} обобрал ее до последней нитки. Говорят, когда-то был ее любовником.
Андрикоса окликнули из маленького магазинчика:
— У тебя есть что-нибудь, старина?
— Скатерти!
— А мадзария?{[22]}
— Мадзария? Иок!{[23]} Скатерти, платья… чистый шелк!
— Валяй дальше! Они пошли дальше.
— Была у меня дома кошка, — рассказывал Андрикос. — Зимой, когда умирал племянник, зарезал я ее, принес на рынок и променял на масло. Я всучил кошку за зайца, а мне тоже подсунули вместо масла травяную настойку. Обнаружил это я уже дома. На другой день опять пришел на рынок и сплавил ее тому самому, что окликнул меня сейчас. А через несколько дней столкнулись мы с ним в трамвае. Меня аж в жар бросило. «Ну, — думаю, — сейчас он мне задаст…» Но куда там! Падает мне на грудь чуть не с поцелуями! «Твоим маслом, — говорит, — я жену спас, она уже опухла вся, чуть-чуть не умерла». Вот так штука!
Они вышли к Монастыраки. Здесь сплошными рядами стояли баулы, столы, шкафы, стулья, полки, шифоньеры, комоды, бюро, огромные трельяжи, буфеты с тарелками и кастрюлями, матрацы, диваны, одеяла, ковры, швейные машинки, керосиновые лампы, груды одежды — все, что только можно было сыскать в голодном городе, все продавалось здесь.
— Нам нужно где-нибудь пристроиться, — сказал Андрикос, — и разложить свой товар.
Они постелили на землю несколько газет, и на них Космас собрался разложить скатерть.
— Нет, давай-ка сюда шаль, — остановил его Андрикос, — она понаряднее.
Они развернули шаль, а платья и скатерти, перекинув через плечи, демонстрировали поочередно.
— Если нам повезет и нарвемся на какого-нибудь толстосума, авось что-нибудь да выйдет, — сказал Андрикос. — Иначе придется бросить якорь у этого паршивца Василакиса.
До вечера никто по-настоящему так и не клюнул: подходили какие-то женщины, ощупывали платья, разглядывали их и с лицевой стороны, и с изнанки. Две или три женщины предлагали деньги. Но Андрикос денег не брал.
— Пока мы донесем их до Розалии, они наполовину обесценятся. И что она будет делать с деньгами? Уж лучше поищем для нее что-нибудь съедобное.
К вечеру, когда начало темнеть, Андрикос оставил Космаса на месте, взял в руки одно из платьев и смешался с толпой.
— Я покружу тут немного. Может, и найду клиента, — сказал он, уходя. — А ты смотри в оба, а то как бы тебя не утащили вместе со всем товаром.
Сумерки уже сгущались, когда Андрикос вынырнул из толпы, ведя за рукав клиента, огромного усатого мужчину в высоких овечьих сапогах. За другой рукав гиганта тянула грузная женщина, похожая на трехпалубную шхуну, мчащуюся на всех парусах.
— Прошу вас! — воскликнул Андрикос. — Прошу вас, хозяин! — И он вытянул руку, будто приглашал клиентов зайти в его магазин под открытым небом. — А ты, мой милый, покажи господам платья.
Космас отложил скатерть и развернул платья. Покупатель застыл на месте, как истукан. Он даже не взглянул на товар.
— Ну, что скажешь, Ангело? — спросил он женщину. Ангело вцепилась в шаль. Она вертела ее из стороны в сторону, раза два набрасывала себе на плечи и, судя по всему, осталась довольна.
— Да что тут говорить!
И еще раз накинула на себя шаль.
— Ну что она может сказать, хозяин? — вмешался Андрикос и принялся разглаживать шаль на могучих плечах Ангело. — Стоит ли спрашивать? Да ты сам посмотри, хозяин.
Но хозяин и на этот раз не взглянул. Он закрутил ус, поднял брови и снова спросил жену:
— Тебе нравится? Скажи только одно слово!
— Нравится, еще как нравится!
— Принеси-ка нам, мальчик, шелковую скатерть! — снова крикнул Андрикос.
Космас взял скатерть и расстелил ее перед клиентом.
— Ну как, Ангело?
— Ой, с ума сойти!
Тут хозяин наклонился и одним глазом взглянул на скатерть.
— Слишком уж она затейлива!
— А мне нравится!
— А теперь покажи нам платья с гирляндами! — закричал Андрикос.
— Да погоди ты! — Хозяин принял великое решение. — Сколько просишь за весь товар?
— Что же мне запросить? — И Андрикос почесал за ухом.
— Только смотри без обману! По-честному!
— По-честному, хозяин. Вот те крест.
— Креста ты лучше не трогай, не марай. Отвечай, сколько хочешь?
— Вот мой ответ, хозяин: подавай четыре золотых и забирай с богом весь товар.
Хозяин пришел в бешенство:
— Что ты сказал, антихрист? Да ты понимаешь, что говоришь?
— Посмотри, что я тебе даю, хозяин…
— Эй, Ангело, пойдем!
Но Ангело никак не могла расстаться с шалью и скатертью.
— Павлис!
— Пойдем, говорю! Обманщики чертовы!
— Погоди, хозяин, одну минуту! Погоди, договоримся!
— Погоди, Павлис!
— Сколько даешь, хозяин?
— Три золотых и ни гроша больше!
— Прибавь, дорогой, еще один золотой!
— Ничего не прибавлю. Пойдем!
— А ну, господь с тобой! Три так три!
Голос хозяина покрывал базарный шум:
— Нет, ты видела, Ангело? Мошенники чертовы! Кого провести хотели, прощелыги?
* * *
От радости у Андрикоса выросли крылья.
— Каков дьявол! — говорил он. — Но больше всего я рад, что не пошел к этому иезуиту и не отдал ему все вещи за горстку фасоли. Вот, пожалуйста, три золотых. А ты знаешь, что это значит для бедняжки Розалии? Трех золотых она не выручила за всю свою мебель, которую раздавала направо и налево ни за что ни про что…
Его возбуждение было так заразительно, что понемногу передалось и Космасу. Он тоже радовался, что они выгодно продали вещи Розалии. Но вместе с тем он думал, что сейчас Андрикос от радости готов сделать сальто, а если бы года два назад, когда он был служащим солидной компании — в галстуке, в отутюженном костюме и с полным желудком, — если б ему кто-нибудь сказал тогда, что он будет старьевщиком на толкучке, Андрикос решил бы, что этот человек сумасшедший. А если бы поверил в пророчество, то предпочел бы скорее провалиться сквозь землю, чем выносить этот позор. Теперь же Андрикос мирится со своим ремеслом, порой оно даже доставляет ему удовольствие. И, кто знает, может быть, за всю его жизнь не так уж много выпадало минут, когда бы он переживал радость так сильно, как сейчас.
Но хорошее настроение держалось недолго. Улицы как-то сразу опустели, словно вместе с сумерками к городу протянулась чья-то сильная рука, хорошенько встряхнула его и на улицах не осталось никого, кроме патрулей да пьяных молчаливых женщин, выползавших с наступлением темноты, как улитки после дождя.
Еще не совсем стемнело, когда Андрикос и Космас натолкнулись на итальянский патруль. Сначала они услышали топот и крики. Еще не сообразив, откуда доносится шум, они увидели мужчину в штатском — он выскочил из переулка и побежал прямо на них. Итальянцы догнали его. Один из солдат ударил его прикладом, и тот со стоном упал на землю. Тогда итальянцы набросились на него и принялись топтать ногами. Упавший кричал, звал на помощь. Солдаты били и ругались — все сразу, возбужденно и беспорядочно, было похоже, будто они топчут виноград. В стремительном потоке итальянской брани нельзя было разобрать ни одного слова. Впрочем, один солдат стал ругаться по-гречески. Он беспрерывно повторял: «Рогоносец, рогоносец, рогоносец!» — и что было сил колотил упавшего.
Первым опомнился Андрикос.
— Не нужно стоять на одном месте, — тихо сказал он Космасу, — а то они и за нас возьмутся. Пойдем напрямик. И слушай: когда подойдем, отдай приветствие! Правой рукой, знаешь…
Когда они приблизились, их остановил гневный окрик:
— Venita qua! (Идите сюда!)
Они замерли и в знак приветствия подняли правые руки.
— О! — удовлетворенно произнес подошедший итальянец. — Allora va bene. (Это другое дело.) Da dove venite? (Откуда вы?)
— Dal mercato, signore! (С рынка, синьор!)
— Mercato nero? Speculator!? (Черный рынок? Спекулянты?)
— No, signore! (Нет, синьор!)
— Hai una figlia? (У тебя есть дочка?)
— Si, e bellissima! (Есть, есть, очень красивая девушка!)
Отделившись от тех, кто все еще топтал лежащего человека, подбежал солдат с автоматом наперевес. Глаза его горели, как два крохотных уголька.
— Весь грек есть рогоносец!
Дышал он прерывисто, как взмыленный конь. Лицо, вытянутое от злости, вплотную приблизилось к лицу Андрикоса. Андрикос перевел его слова в шутку:
— Ha ragione, signore. Il greco e’un cornuto, pero la ragazza é molto bella. (Синьор прав. Греки рогоносцы, зато гречанки очень красивы.)
Первый солдат залился смехом.
— Questo greco é proprio un buffone! (Да этот грек настоящий паяц!)
Второй по-прежнему смотрел волком.
— Quando saremo stufi con le ragazze, comincieremo con le vostte mogli! (Как только покончим со всеми синьоринами, мы примемся за ваших жен!)
— San Pietro abbia almeho pieta di noi uomini! (Пусть святой Петр пожалеет хоть нас, мужчин!)
Первый снова залился смехом.
— Ma, si ha proprio del gusto! (Да, он знает толк в шутках!)
Человек, которого избивали в нескольких шагах, уже не стонал. Итальянцы отошли от него и перестали ругаться. В тишине пустынной улицы раздавался лишь смех веселого солдата.
— Эй! — грубо крикнул кто-то из патруля. — Chi sono quelli la? (Кто там у вас?)
Он отделился от своих и подбежал к задержанным. Солдаты расступились.
— Dove andate? (Куда вы идете?)
— A casa nostra, signer capitano! (Домой, господин капитан!) — сказал Андрикос, снова поднимая руку.
— Io non sono capitano, ma solo sergente! (Я не капитан, а всего лишь сержант!) — сказал тот, понижая тон.
Андрикос собирался что-то добавить, но сержант, размахнувшись, закатил одну оплеуху ему, другую отвесил Космасу. Потом схватил Андрикоса за шиворот.
— Allontanatevi immdiatamente appena io chiudo un occhio! (Пошли вон! И чтоб духу вашего здесь не было!)
Космас и Андрикос бросились бежать. За их спиной снова захохотал солдат…
Когда они свернули в переулок, Андрикос едва стоял на ногах. Его грудь поднималась и опускалась, как мехи. Чтобы не свалиться на мостовую, он схватился за Космаса.
Они шли молча. Но не из страха — страх остался где-то позади. К человеку, шагавшему рядом, Космас испытывал сейчас нечто вроде отвращения. За минувшие дни он привязался к Андрикосу, а теперь тот казался ему совсем чужим. Его паясничанье, его унижение перед итальянцами, хоть и спасло им жизнь, вызвало в душе Космаса бурю противоречивых чувств — то гнев, презрение, отвращение, то понимание и жалость.
— Дешево отделались! — произнес наконец Андрикос, явно для того, чтобы сломить лед.
Космас не ответил. Они еще раз свернули за угол, — А знаешь, другого, они, кажется… Космас и на этот раз промолчал. Тогда Андрикос взял его за руку.
— А ну, скажи мне, — мягко проговорил он, — почему ты не отвечаешь?
С минуту они смотрели в глаза друг другу. Взгляд Андрикоса выражал покорность, и Космас вдруг почувствовал себя виноватым.
— Да что ты, что ты! — пробормотал он и попытался улыбнуться.
— Но ты подумал, что я…
— Ничего я не подумал! Что ты в самом деле?
Они пошли дальше. И снова молчали. Космас понимал, что теперь должен заговорить он, но не мог придумать ничего подходящего. Наконец его осенила неплохая мысль. Он спросил:
— Далеко еще до Розалии?
* * *
Дом Розалии стоял в центре, рядом с театром, который, как сказал Андрикос, когда-то тоже принадлежал ей.
Андрикос поднялся наверх один, но сначала надежно спрятал Космаса под каким-то навесом во дворе: на площади каждую минуту мог появиться патруль.
Космасу недолго пришлось сидеть под навесом. Андрикос вскоре спустился, но, вместо того чтобы выйти на площадь, они вошли в подъезд театра.
— Грех упускать такой случай, — сказал Андрикос. — Иди сюда.
Они не стали подниматься по лестнице, а прошли в какой-то темный коридор, миновали несколько дверей и неожиданно оказались в боковом ярусе. Внизу, под ними, лежал зал, большой, холодный и пустой. Только передние ряды партера были заполнены людьми.
На сцене за длинным столом сидело человек десять мужчин и женщин. Председательское место занимал поп. Космас впервые видел настоящего попа на сцене.
— Что здесь происходит? — тихо спросил Космас, повернувшись к Андрикосу.
Тот сделал ему знак молчать и смотреть на сцену.
На сцене с краю стола, заложив ногу за ногу и упершись в стол локтем правой руки, сидел молодой мужчина в очках. Перед ним лежали какие-то бумаги. Вот он приподнял голову и громко крикнул:
— Три!
Потом, обращаясь к зрителям, спросил:
— Кто еще?
Легкий шум волной прокатился по залу, и снова воцарилась тишина. Все ждали.
— И один наполеон! — выкрикнул кто-то из первых рядов.
— Три и один наполеон! Продолжаем, господа!
— Четыре!
Мужчина в очках наклонился вперед и приветствовал кого-то из публики. Потом он принял прежнюю позу и сказал:
— Четыре, господа! Лидирует господин Галанос!
Поп покуривал и тихо беседовал с госпожой, сидевшей рядом.
Андрикос схватил Космаса за локоть.
— Взгляни направо! — прошептал он. — На первый ряд. Там Бела Джина.
Космас придвинулся ближе к барьеру. Белу Джину он знал по фотографиям в журналах. Ее слава докатилась и до провинции. В свое время она участвовала в нашумевшем театральном обозрении, где по ходу пьесы ей приходилось принимать ванну на глазах у зрителей. Ванна, писали газеты, была установлена на правом крыле сцены, поэтому все места справа были распроданы в первый же день на весь сезон. А в самом театре перед эпизодом с ванной начиналась потасовка. Все бросали свои места и устремлялись на правое крыло, чтобы получше рассмотреть Белу в те минуты, когда она входит в ванну и выходит из нее. Газеты сообщали, что один из многочисленных поклонников Белы подарил ей в день премьеры золотую статуэтку Афродиты, выходящей из морской пены. После двух-трех представлений дирекция была вынуждена перенести ванну на середину сцены. — Ну как, видишь? — спросил Андрикос.
— Вижу.
— Рассмотри получше, такого случая больше не представится. Сегодня ее продают с аукциона.
— Белу?
— Не бойся. Ее поцелуй.
— И кто это затеял?
— Комиссия. И тот бородатый козел — председатель. Их, видишь ли, одолела забота о народных столовых. Мне сейчас сказала Розалия, они хотели втянуть и ее. Но она хорошо знает, что это за типы.
Между тем поцелуй Белы оценивался уже в пять золотых.
— Кто больше, господа? Пальма первенства принадлежит господину Илиадису.
— Шесть!
— Господин Павлопулос предлагает шесть. Павлопулос поднялся со своего места. Он стоял, как охотник, который выстрелил и теперь ждет, чтобы птица упала. Космас узнал его.
— Я его знаю! Я видел его у Марантиса.
До сих пор аукцион шел спокойно и неторопливо. Предложение Павлопулоса всколыхнуло зал.
— Семь! — сказал мужчина, сидевший возле Белы Джины.
— Семь. Лидирует господин Лавдас.
— Восемь! — крикнул Павлопулос.
— Девять!
— А! Господин Галанос активизируется! Прекрасно!
— Десять — и отказываюсь от поцелуя.
— Это Лавдас. Он ее любовник, — сказал Андрикос. — Сын табачного магната.
Заявление Лавдаса внесло беспорядок. Послышались возгласы, протестующие против нарушения правил. Мужчина, проводивший аукцион, несколько раз постучал перстнем по стакану и призвал публику к порядку.
— Никакого нарушения не произошло! — сказал он. — Победитель волен воспользоваться или не воспользоваться своим правом. Есть еще претенденты? Господин Павлопулос отступает?
— Исключительно из уважения к господину Лавдасу, — ответил Павлопулос.
— Однако не забывайте, что уважение в данном случае наносит ущерб благотворительности, — напомнила дама из комиссии.
— Одиннадцать золотых — и я не откажусь от поцелуя Белы Джины!
— Лидирует господин Галанос. Одиннадцать!
— Двенадцать.
— Двенадцать — господин Лавдас!
— Тринадцать!
— Тринадцать — господин Галанос!
— Пятнадцать, господа!
— Пусть пятнадцать! И Бела Джина сегодня моя! Поднялся переполох. Хохот, крики, свист. Кое-кто в зале возмутился непристойностью. Члены комиссии отчаянно жестикулировали, но голосов их не было слышно. Наконец встал поп. Шум стих.
— От имени комиссии настоящего конкурса, председателем которой я являюсь, считаю своим долгом призвать к порядку господина Галаноса. Фраза, которую он произнес…
— Каюсь, отец! — воскликнул Галанос, поднимаясь со своего места. — Благословите!
Галанос поклонился, и Космас увидел его большую лысую голову.
— Да не наш ли это утренний торговец? — спросил он Андрикоса.
— Да, негодяй Василакис, он самый. Упрям, как осел, и ни за что не уступит.
Аукционер поднялся.
— Имейте в виду, господин Галанос, если вы остановитесь на пятнадцати, первенство присуждается господину Лавдасу, который…
— Не остановлюсь! — крикнул Галанос. — Восемнадцать!
— Двадцать!
— Двадцать за господином Лавдасом!
— И я двадцать! Нет, двадцать один!
— Двадцать пять!
— Тридцать!
Бас Галаноса стал сбиваться на пронзительные нотки.
— Тридцать пять! — спокойно сказал Лавдас.
— Тридцать пять господина Лавдаса! — раздался голос аукционера. — А господин Галанос?
— Сорок!
— Сорок пять!
— Сорок пять — господина Лавдаса! Господин Галанос?
— Пятьдесят!
— Шестьдесят!
— А, чтоб тебя!.. Ты самого черта выведешь из терпения!
Галанос встал. Шумно дыша, вытер запотевшую лысину и широкими шагами направился к выходу.
— Шестьдесят — господин Лавдас! — продолжал аукционер в общей суматохе. — Кто больше, господа? Нет? Считаю: раз… два… три! Победу в конкурсе одержал господин Лавдас! Дамы и господа, аплодируем победителю!
Все поднялись со своих мест. Публика неистово хлопала. Аплодировали и члены комиссии. Дама, сидевшая рядом с попом, жестом пригласила Лавдаса подняться на сцену. Он поклонился Беле, взял ее под руку, и они вместе поднялись в президиум.
— Вознаграждение! — крикнули из зала.
И этот крик мгновенно подхватили все:
— Вознаграждение!
Выкрики, хохот, аплодисменты:
— Воз-на-гра-жде-ние! Воз-на-гра-жде-ние!
Бела Джина и Лавдас вышли на сцену. Члены комиссии встретили их рукопожатиями и поцелуями.
Публика требовала награды победителю.
Поп и дама из комиссии освободили места в середине стола для Белы Джины и Лавдаса. Бела была в простом голубом платье, которое оставляло обнаженными ее загорелые руки и глубоко открывало грудь. Ее прекрасные белокурые волосы, густые и длинные, блестели при свете люстры. Лавдас, с черными лоснящимися волосами и кривым носом, был немного ниже Белы.
В партере продолжали кричать.
Лавдас повернулся и стал напротив Белы, которая смотрела на него с улыбкой.
Шум оборвался. Нервно и нетерпеливо поскрипывали сиденья кресел. Поп кашлянул раза два и уставился в потолок.
Лавдас наклонился к Беле, взял ее руку и поцеловал кончики пальцев.
По залу пронеслось разочарованно: «А-а-а…» Зрители жаждали справедливой награды.
Тогда Бела наклонилась и сама поцеловала Лавдаса.
VII
Дома их ждал ночной гость. Андрикос не сразу узнал его. Он остановился и с недоумением посмотрел на пришельца, красивого мужчину лет пятидесяти — пятидесяти пяти с густыми черными, чуть тронутыми сединой волосами. И только когда гость улыбнулся, Андрикос протянул руки и обнял его.
Оба были взволнованы. Встреча с Андрикосом, несомненно, доставила гостю большую радость. Но чем больше присматривался к нему Космас, тем отчетливее видел на его лице печать глубокой скорби. Его взгляд, открытый и спокойный, был очень печален.
— Космас! — воскликнул Андрикос. — Иди сюда, я познакомлю тебя с моим лучшим другом. Это поэт Фотинос!
За те несколько дней, что Космас провел в городе, он научился хладнокровно воспринимать самые странные вещи. Он привык проходить мимо больных и умирающих не оглядываясь, как это делали все в шумной и грязной толпе, каждый день извергавшейся на улицы, чтобы сражаться за жизнь. События, которые раньше глубоко затрагивали его душу и навсегда оставались в памяти, теперь мелькали перед ним с ужасающей быстротой, не оставляя ничего, кроме безразличия. Несколько лет назад в родном городе Космаса на железнодорожном полотне ночью нашли труп. За два-три часа эта весть распространилась по городу, и все жители высыпали на улицу. Прошли месяцы и годы, прежде чем прекратились разговоры об «убийстве на рельсах» и в памяти стерся облик убитого. А сейчас люди умирали один за другим, они падали прямо на улицах, и никто не придавал этому значения, как будто массовая смерть переставала быть смертью. Космас понимал, что за эти несколько дней голодный город уже успел пропитать его своим ядом.
Но сейчас, когда судьба столкнула его с поэтом, стихи которого он слышал еще в детстве, из уст матери, Космас почувствовал, что в нем пробуждается целый мир воспоминаний. Этот мир погрузился в сон, но он не умер.
Глаза поэта смотрели дружелюбно. И сейчас их печаль была еще заметнее. Да, совсем другим представлял себе Космас это красивое лицо с большими глазами, оно было совсем другим на обложках книг, на страницах журналов и школьных учебников. И совершенно так же, как после долгой разлуки мы разглядываем знакомое лицо, стараясь уловить на нем следы прожитых лет, так и Космас выискивал сейчас перемены в облике поэта.
— Давайте посидим все вместе, — сказал Фотинос глубоким голосом, и этот голос коснулся слуха Космаса как давно знакомая мелодия. — Я сегодня уезжаю и пришел попрощаться с тобой, Андреас. Попрощаться и, — поэт горько улыбнулся, — оставить тебе свою карточку. С самого утра, когда я принял решение уехать, только эта мысль меня и мучила: кому же я оставлю карточку? Я перебрал всех своих друзей и выбрал тебя. Объясни мне, почему?
Андрикос смотрел на него, улыбаясь.
— Нет, ты объясни! — повторил поэт.
— Если бы, Фотинос, я не знал тебя так близко, мне это показалось бы странным. Мы столько лет не видались — и вот, пожалуйста, ты внезапно являешься, чтобы оставить мне карточку и уехать. Только ты способен на такие сюрпризы!
— Ты ничего не понял! Ну ладно, я сам скажу… Я перебрал всех своих друзей. И ни одно имя не тронуло моей души, не коснулось ее тяжкой боли. И тогда мои мысли унеслись далеко-далеко в прошлое, к окопам Афиона Карахисара. И там я нашел тебя, брат мой, там, где когда-то наши сердца спаяла дружба, окропленная кровью, обожженная горьким огнем несчастья. Я нашел тебя, и ты перевернул мою душу. Как видишь, пришло такое же лихолетье. И то былое несчастье сомкнулось с нынешним, еще более страшным. Стало быть, нам необходимо было встретиться.
Он вынул из кармана пальто бутылку коньяку и с размаху поставил ее на стол.
— Ничего другого у меня нет, тащи и ты на стол свою боботу{[24]} и лук.
Андрикос с живостью вскочил с места.
— Вместо лука я подам кое-что получше — турецкую бастурму, прямо с «Куртулуса»{[25]}.
— К черту и «Куртулуса», и бастурму! Принеси луку, чесноку и что там у тебя еще есть. Обойдемся тем, что взрастила родная земля, которая взрастила и меня самого.
Он взял бутылку и наполнил стаканы.
— Я хотел пожелать тебе, Фотос, доброго пути, — сказал Андрикос, — но ты даже не намекнул мне, куда направляешься.
— Я не хочу, чтобы вы пили за меня. Я хочу выпить за наше общее здоровье, за здоровье всех, кто еще не умер и не запятнал своей совести. Что касается меня, то я и сам не знаю, куда уезжаю. Я знаю только, откуда я бегу.
Он залпом выпил стакан и со стуком поставил его на стол.
— Бегу от чудовища, протянувшего свои щупальца, чтобы задушить меня! Ухожу из грешного города искать убежище для своей души.
— На горе твое убежище или на море? — поддразнил его Андрикос.
— Где угодно. Только бы сбежать отсюда. Здесь грязь, болото, здесь человек не может выжить, его засасывает, он задыхается.
Андрикос рассмеялся.
— Ну, далеко не все, — сказал он. — Я, например, не ощущаю перебоев в работе моей дыхательной системы. Она у меня действует как швейцарские часы. Что касается желудка, тут другой разговор. Вот желудок мне никак не удается набить, Фотос. Если хочешь, спроси Космаса — здешний воздух его тоже устраивает. А он всего лишь несколько дней, как пожаловал из провинции.
Поэт повернулся к Космасу.
— Это правда? — спросил он.
— Да, всего несколько дней, — растерянно ответил Космас.
— И ты, друг мой, собираешься остаться здесь?
— Я не могу поступить иначе. Во всяком случае, в ближайшее время…
Андрикос взял бутылку и снова наполнил стаканы.
— Все пройдет, Фотос, — сказал он с напускным оптимизмом. — Все в этом мире когда-то начинается, но когда-то обязательно кончается.
— Вот сейчас ты сказал правду, — с отчаянием проговорил поэт. — Сейчас действительно близится наш конец.
— Но я этого не сказал. Я говорил не о нашем конце, а…
Поэт не дал ему окончить.
— Андреас, брат мой, — сказал он мягко, — важно не то, что ты сказал, а то, что происходит вокруг нас. Мы идем к неизбежному концу. Утром, уходя на работу, ты даже не оглядываешься по сторонам. И никто не оглядывается. Никто из нас не смотрит на Христа, которого каждое утро вместе с двумя разбойниками распинают перед Парфеноном{[26]}.
— Да когда же мне смотреть? — Андрикос обратил в шутку слова Фотоса. — Как мне поднять голову, если с утра до вечера я, согнувшись в три погибели, тащу свою тележку?
— Все кончено! Все!..
— Не отчаивайся, Фотос! За распятием непременно следует воскресение. Из истории известно и кое-что другое: было время, когда мусульмане превратили Парфенон в мечеть, и все же потом…
— Потом он снова стал храмом. Ты это хочешь сказать? Но тогда, дорогой мой друг, была жива душа нации, а сейчас…
— Это злое наваждение, которое развеется, Фотос, Это дурная болезнь.
— Да, это болезнь. Но она неизлечима и с каждым днем все сильнее разрушает наши тела и души. Каждый наступающий день, Андрикос, — это еще одна капля яда, проникающая в наш организм… Ну вот скажи мне, как ты прожил сегодняшний день?
— Как всегда, — ответил Андрикос, — Ничего особенного.
— Ты ходил на рынок?
— Как всегда.
— Ты видел мертвых?
— Да.
— Опухших, валяющихся на улицах? Ты видел раздетых и голодных детей, ты видел…
— Я все видел. Я сам продавал кошек и собак, и люди их ели.
— А видел ты шедевры искусства и святые реликвии, валяющиеся на дорогах под ногами толпы?
— Я видел кое-что и похуже. Я видел, как топчут не только реликвии, но и людей. И еще я видел, Фотос, седого человека, который унижался перед итальянским сержантом, как последний паяц. Я видел и другое. На моих глазах в шестьдесят золотых был оценен поцелуй проститутки. Я видел… Ты хочешь, чтобы я продолжал, Фотос?
— Нет. Теперь выслушай меня.
Поэт наполнил свой стакан, выпил, и его голос, тихий и неторопливый, полился, как скорбная песня:
— Повторяю, эта болезнь неизлечима. Ее корни проникли слишком глубоко, и ни бог, ни черт не в силах их выдернуть. Эта болезнь — многоголовая гидра, напавшая на наш город: одни умирают, другие голодают, третьи живут под страхом смерти и голода. Все мы в агонии, в предсмертной агонии. Смерть же ближнего мы не ставим ни в грош. В нас проснулись животные инстинкты. Мы умираем и живем как звери, наш город превратился в джунгли, выходишь из дому и попадаешь в дикий лес. Болезнь начинается с апатии к ближнему. Сначала мы безучастно проходим мимо жертв несчастья, потом скатываемся к обману, к воровству и, наконец, к предательству. Зверь, вселившийся в нас, все дичает и дичает, голод ожесточает его. Добродетели нет, мы потеряли ее вместе с хлебом. И нет конца нашим страданиям.
— Что же нам остается делать, Фотос?
— Умерших не воскресишь. Заболевших не вылечишь. Спасение в одном — не поддаваться болезни. Держаться подальше от течения, чтобы тебя не унес зараженный поток. Оставаться человеком и эллином — вот в чем спасение.
— Да, но как это сделать? Скрестить руки и ждать смерти? Пасть ниц перед немецким фашистом? Постричься в монахи? Что можно сделать, чтобы остаться человеком и эллином?
— Я завтра уезжаю.
— Куда?
— Куда глаза глядят.
— Чтобы стать отшельником?
— Чтобы остаться человеком. Я не вижу другого способа.
Наступила тишина. Они допили коньяк. Космас видел, как в печальных глазах поэта засветилась радость: он был уверен, что принял правильное решение.
Молчание прервал Андрикос:
— Может быть, ты и прав, Фотос. Бог с тобой! А я уже по горло погряз в грехах. Меня не спасет ни бог, ни черт.
Поэт встал. Его высокая, широкоплечая фигура заполнила всю комнату. Прежде чем выйти, он положил свою тяжелую руку на плечо Космаса.
Фотос ничего не сказал. Но в его взгляде Космас прочитал мольбу и упрек.
* * *
Ночь тянулась бесконечно. И в забытьи, и наяву Космас видел один и тот же сон.
Он задыхался, он чувствовал себя бесконечно одиноким: ни позади, ни впереди — ни души. Нужно было идти, он ощупью искал дорогу. И не находил. А со всех сторон его звали: звал поэт с печальными глазами, звала сумасшедшая рыночная толпа, звал друг его отца… Куда же пойти?
* * *
На Илийской равнине, на берегу реки, стоял дом сестры его покойной матери. Это была удивительно тихая и спокойная долина, и когда он в детстве впервые попал туда, то был напуган ее молчанием и безлюдьем.
Сейчас это воспоминание ниспослало покой его душе.
VIII
Нужно было раздобыть денег на обратный путь и привести в порядок документы.
К вечеру он оставил Андрикоса с его тележкой на рынке, а сам направился к Университетской. Кафе напротив университета было местом встречи его земляков. Широкая улица лежала в безмолвии. После рыночной суеты и грязи Космасу показалось, будто он шагнул в другой мир, спокойный и человечный. Здесь еще сохранилось что-то от старой, довоенной жизни.
Кафе было переполнено. Казалось, для этих людей ничто в мире не переменилось. Война и оккупация застали их за преферансом, они только на минутку отложили карты на мраморный столик, но тотчас же опять взяли в руки мелок и продолжили игру. Так казалось с первого взгляда. Когда же Космас вошел в кафе и немного покружил среди столиков, разыскивая знакомых, он понял, что ошибся: отовсюду на него смотрели воспаленные глаза, за клубами дыма здесь тоже витало всеобщее горе. Кое-где играли в карты. У стен на кожаных диванах сидели какие-то старички, молчаливые, забытые, сидели и чего-то ждали. То здесь, то там мелькал белоснежный официант с подносом, заставленным стаканами с водой и кофе. От кофе остались лишь название и цвет, в действительности это турецкий горошек и сахарин.
Настоящий кофе с сахаром давно стал редкостью.
Каждый раз, заходя в кафе, Космас вспоминал врача, посещавшего их семью. Это был очень приятный и душевный старичок. На шее у него сидела целая свора — сын-хулиган и девять бойких дочек. И хотя клиентура была довольно обширная, он вечно бедствовал. Всегда, даже до войны, врач ходил в потертых брюках и стоптанных ботинках. У него была старинная черная шляпа и трость с серебряным набалдашником. К нашествию итальянцев дочки врача были уже взрослые, и семье не пришлось голодать. Врач, однако, ни о чем не догадывался, иначе он никогда бы с этим не примирился. «Я открою вам, друзья мои, одну тайну, — как-то рассказывал он в кафе. — Признаюсь вам, какую неожиданную радость я испытал сегодня. — Врач с хитроватой улыбкой оглядел своих слушателей, затем понизил голос и произнес едва ли не по слогам: — Сегодня я пил довоенный кофе. Кофе с сахаром!» — «С сахаром?» — «Да! Жена принесла мне его после обеда, принесла и не сказала ни слова. Но я понял по запаху. «Что же ты, дорогая моя, не сохранила хоть кусочек сахару, чтобы полюбоваться на него?» — «Вот до чего докатились! — вздохнул аптекарь Птолемей. — Даже сахару — и того нет». Разговор покатился по обычному руслу: голод, война, оккупация, иностранные солдаты. «Совсем обнаглели! — возмущался Птолемей. — Да вы что, не видите? Ведь они, друзья мои, не знают ни стыда, ни совести. У моего соседа две дочки. Ну, скажу вам, мы всю ночь глаз сомкнуть не можем. Посетители — один за другим. Позавчера по ошибке постучали в мою дверь! Жена заколотила окно на ту сторону. «Откроем, говорит, после освобождения…» Но, я вам тоже скажу, итальянские солдаты не виноваты. Если бы эти трясогузки не вертели хвостами…» — «Да, мой друг, — согласился с ним врач. — Разве итальянцы виноваты? Будто мы не знаем, что такое служба! Нет, я их тоже не осуждаю. Но я спрашиваю: куда же смотрят родители этих девушек?»
В компании с ними находился учитель-математик. Он сидел в стороне и читал газету. «К сожалению, дорогой врач, — сказал он медленно и веско, — к сожалению, родители довольствуются тем, что пьют кофе с сахаром…»
…В кафе Космас не увидел никого из знакомых. Официант сказал ему, что вчера приехали несколько человек из Пелопоннеса, они остановились в гостинице «Кипр» и, наверно, до вечера заглянут в кафе. Космас решил подождать их. Он нашел стул неподалеку от дверей.
Отсюда он видел университет. Невысокое здание с мраморной лестницей и стройными колоннами. Он представлял его себе совсем другим. По этим ступеням, ныне таким грязным, он поднимался когда-то в своих мечтах. Теперь Космас сидел у окна, не ощущая в себе ни волнения, ни трепета былой мечты. Он сидел и ждал, не появится ли какой-нибудь сердобольный земляк, который поможет ему уехать. На древнее здание Космас смотрел равнодушно. За мутным, запотевшим стеклом оно виделось ему тусклым, придавленным к земле, словно человек, угнетенный несчастьем и заботами.
* * *
Внезапно ему показалось, будто здание покачнулось. Площадь у его подножия с маленькими деревцами и газонами ожила. По мраморной лестнице бежали люди. Навстречу им из центрального вестибюля университета группами выходили из-за мраморных колонн студенты. За несколько минут площадь наполнилась народом.
В кафе поднялся переполох. Посетители вскочили со своих мест и бросились к выходу. Один из них крикнул:
— Они возлагают венок!
Будто чья-то рука подняла и выбросила Космаса на улицу. Он пересек тротуар и бросился к площади.
* * *
Люди столпились перед статуей Ригаса Фереоса{[27]}. Какой-то человек, поднявшись на цоколь памятника, произносил речь. Издалека было видно, как он возбужденно жестикулирует, как развеваются на ветру его волосы, но не слышно было ни слова. В толпе выкрикивали лозунги, раздавались аплодисменты.
— Да здравствует нация!
— Свободу!
Группа студентов направилась к памятнику патриарху{[28]}. Многие держали в руках венки. Какая-то девушка забралась на плечи юноши, поднесла ко рту бумажный рупор и крикнула:
— Да здравствует двадцать пятое марта!{[29]}
Вдруг наступила тишина, люди упали на колени. У памятника патриарху начали петь гимн. Космас тоже встал на колени, его голос присоединился к хору:
Узнаю клинок расплаты,
Полыхающий грозой…{[30]}
* * *
Со стороны улицы донеслись крики:
— Идут!..
Все, кто был с краю, встали. Но на лестнице и вокруг памятника продолжали петь. Крики: «Идут!» — смешались с другими: «Не уходите!», «Да здравствует двадцать пятое марта!», «Да здравствует Национально-освободительный фронт!»{[31]}
Из здания немецкой комендатуры раздались редкие выстрелы. Многие побежали. Послышались призывы:
— Не впадайте в панику!
— Патриоты, ни с места!
Со стороны академии приближались итальянцы. Толпа стала отступать. Космас тоже начал спускаться по лестнице, но дорогу им преградили девушки:
— Куда же вы?
Снова опустились на колени и запели. Космас очутился на газоне. Под коленями он ощутил мокрую землю.
На лестнице показались итальянцы — в касках, в сапогах, с автоматами в руках. Они шли прямо на коленопреклоненных, прокладывая себе путь прикладами.
У памятника Ригасу собралась кучка студентов. Они издевались над итальянцами:
— Vinceremo! Vinceremo!{[32]}
— Ура!
— Браво, колонело!
И потом перешли на песню:
С улыбкой на губах
Идут вперед солдаты…
* * *
Итальянцы окружили площадь. Со стороны Университетской показалась полиция, с улицы Кораиса наступали немцы. С грохотом подъезжали военные грузовики. Начали стрелять. Рядом с Космасом упал, обхватив руками голову, какой-то мужчина.
У памятника все еще кричали:
— Ура!
— Браво, колонело!
Девушка в изорванной одежде кричала прямо в лицо итальянцам. Солдат ударил ее. Она со стоном упала. Какой-то карабинер схватил Космаса за волосы и принялся изо всех сил дубасить его кулаком, потом бросил на землю, несколько раз пнул ногой и поспешил дальше. Космас вскочил и смешался с толпой, спускавшейся на улицу по маленькой лестничке за памятником Ригасу. С Университетской, размахивая нагайками, бежали полицейские.
— Разойдитесь!..
Во дворе студентки, забравшись на решетку, кричали:
— Долой предателей!
У ног Космаса упал венок. Кто-то, убегая, уронил его. Космас посторонился, чтобы не наступить на венок, и побежал дальше.
— Венок! — крикнули спереди. — Венок!
Космас быстро вернулся, поднял венок и снова побежал.
— Коллега! — крикнул ему кто-то. — На улицу Академии! Мы пойдем к площади Гетеристов!
Кричал высокий парень с усиками. Космас хотел сказать, что он здесь случайно, что венок тоже случайно оказался на его пути и что он понятия не имеет, где эта площадь Гетеристов. Но высокий не стал его слушать.
— Сюда, коллеги!
Потом крикнул полицейским:
— Янычары проклятые!
Он размахивал ручищами и разбрасывал продолговатые прокламации. Космас поймал одну из них. Девушки за оградой кричали полицейским:
— Руки прочь от народа!
Прокламация была отпечатана на красной бумаге: «Греки, все, кому дорога свобода родины! День 25 марта, день годовщины революции ваших отцов, призывает вас к борьбе. Независимо от своих убеждений, вступайте в ряды ЭАМ. Боритесь за хлеб, который у вас отняли, за свободу, которой вас лишили. Будьте достойными Колокотрониса и Папафлесаса{[33]}, и тогда победа увенчает вашу святую борьбу».
* * *
На улице Академии скопились большие силы полиции и итальянцев. Солдаты выпрыгивали из автомобилей и бежали наперерез пробивавшимся к площади Гетеристов.
— Скорее! Скорее! — кричали сзади.
— Эти подлецы перекроют нам дорогу!
Бежавшие впереди успели прорваться. Космас и еще несколько человек очутились в окружении. Сзади их нагоняли полицейские. Впереди итальянцы перекрыли дорогу. Круг замкнулся.
— Сюда! — крикнул кто-то и полез на забор библиотеки.
Их настигали. В ту минуту, когда Космас уже готов был перемахнуть через решетку, железная рука вцепилась ему в волосы.
— Постой-ка, герой!
Это был полицейский. Следом за ним бежал итальянский солдат в каске. Увидев, что полицейский уже схватил Космаса, солдат повернулся и кинулся за другими.
— Руки прочь! Ты что, не видишь? — сказал Космас полицейскому, кивнув на венок.
— Бросай, говорят тебе! Ишь ты, «руки прочь». Я вот покажу тебе!..
— Выдашь меня итальянцам? Разве ты не грек?
— Смотри ты, черт возьми, сосунки — и туда же! Решили, что только они патриоты!
Полицейский отпустил волосы Космаса и потянулся за венком. Космас выпустил венок и, почувствовав себя свободным, спрыгнул в сад и бросился бежать.
— Стой, говорю! Стой, чтоб тебя!..
Космас присоединился к демонстрантам, которые бежали с другой улицы к воротам на улицу Исократа, Но итальянцы и полицейские уже оцепили сад.
— Ни с места! — угрожали они пистолетами.
Студенты ругались:
— Прихвостни Муссолини!
— Фашисты!
В сад ворвался новый отряд, вооруженный пистолетами и нагайками. Двое навалились на Космаса и заломили ему руки за спину.
У тротуара стоял крытый грузовик.
IX
Большой зал полицейского участка набит битком. Окровавленные головы, порванная одежда, суматоха, крики… То и дело дверь открывается, и в зал вливается новая волна арестованных. Те, кто вышли из переделки невредимыми, протиснулись к железной двери. Через разбитое окошко было видно, как полицейские сновали вниз и вверх по лестнице.
— Эй, иуды, откройте! Нужно вынести пострадавших!
— Вызовите «скорую помощь», здесь люди умирают! Янычары! Предатели!
Космас прильнул лицом к двери. В глубине зала снова запели гимн. Рядом с Космасом оказался высокий парень, разбрасывавший прокламации. Один глаз у него почернел и опух. Просунув голову в разбитое окошко, парень кричал полицейским:
— Чего же вы, подонки, не идете в Команде Пьятца получать свои предательские сребреники! Откройте, дайте нам вынести раненых! Убийцы!
Полицейские, не произнося ни слова, проходили мимо.
— Да позовите же офицера! Вы слышите или нег? У нас есть раненые!
На лестнице появился офицер. Прищурившись, он смотрел на высокого.
— Ну что ты на меня уставился?
— Да вот не мог тебя сразу признать, Кофинас!
— А сейчас, раз признал, Открой дверь, у нас раненые.
— Опять тебе глаз подбили?
— Твоих молодцов работа. Значит, к Гитлеру служить пошли? Открывай, иначе ты будешь за все в ответе.
— Три года на Анафисе{[34]} тебя не образумили?
— Здесь умирают три человека. Если вы не примете мер и сейчас же не отправите их в больницу, ты будешь нести за это личную ответственность.
Офицер подошел поближе:
— За что, Кофинас? Что я тебе сделал?
— Вот так вопрос! Вместе с итальянцами стреляли в народ…
— Народ? Ты эту коммунистическую пропаганду лучше оставь. И сюда пришел агитировать?
— Во-первых, я не пришел, меня притащили силой. И, во-вторых, какая же это пропаганда? Разве пропаганда то, что вы служите Команде Пьятца? И что запрятали нас сюда, чтобы выдать итальянцам? А мой подбитый глаз? Это тоже пропаганда?
Девушка, выглянувшая в соседнюю дверь, закричала:
— Делегация идет! И профессор тоже!
В коридоре показалась группа людей. Впереди шли пожилые, сзади — юноши и девушки. В центре шагал старичок с сухим, аскетическим лицом. Щеки его запали, образуя две глубокие ямы, седые волосы торчали в разные стороны.
— Нам нужен господин начальник, — прошамкал беззубым ртом старичок.
— Я начальник, — ответил офицер.
Старик взглянул на него и нервно кашлянул.
— Мы решительно протестуем… Стыдно! Это позор!..
— Господин профессор…
— Мы требуем освобождения всех студентов, которых вы арестовали при исполнении ими священного долга.
— Господин профессор, вы оскорбляете полицию!
— Я не собираюсь оскорблять кого бы то ни было. О каждом судят по его делам. Мы хотим, чтобы вы освободили студентов. Всех без исключения. Мы поражены: как вы осмелились арестовать греков в то время, когда они возлагали венок на памятник борцам за революцию? Это неслыханно!
Офицер вынул из кармана пачку бумаг:
— Господин профессор, вы читали это?
Профессор даже не взглянул на бумаги. Он весь дрожал.
— Я ничего не читал. Зачем мне читать? Почему я должен читать?
— Это коммунистические прокламации! — провозгласил офицер. — Их выпустил ЭАМ. Пожалуйста! — И он протянул листки профессору.
— Господин начальник, меня это не интересует. Если бы сам дьявол возложил сегодня почетный венок на могилу героев, я поспешил бы пожать ему руку. Да, да, да! Сам дьявол… И как можно не радоваться, господин начальник, когда видишь, что все, все без исключения стремятся отметить национальный праздник?
Офицер сунул бумаги в карман.
— Я вас понимаю, господин профессор. Вы смотрите на вещи… как бы вам это сказать… с другой точки зрения. Но посудите сами: как прошло сегодняшнее выступление?
— Это уже политика! — крикнул делегат, стоявший рядом с профессором. — Время ли заниматься политикой, когда того и гляди мы все полетим к дьяволу!
— Господин начальник! — снова заговорил профессор. — Мы пришли сюда, чтобы потребовать освобождения арестованных. Отпустите студентов.
— Не могу! Я выполняю приказ…
— Чей?
— Высших инстанций.
— Правительства предателей! Цолакоглу{[35]} и Берарди{[36]}! — выкрикнули позади Космаса.
— Точнее: чьи приказания вы выполняете?
— В арестах приняла участие Команде Пьятца. Я ничего не могу сделать.
— В таком случае к кому нам следует обратиться?
Офицер развел руками:
— Обратитесь в полицейское управление. Откуда я знаю?
Делегация подошла к двери.
— Крепитесь! — кричали делегаты. — Мы идем в полицейское управление. К вечеру вас должны отпустить.
— У нас есть жертвы. Есть умирающие. Многие ранены. Скажите, чтобы по крайней мере забрали раненых.
Делегация отправилась в полицейское управление.
* * *
Уже спустилась ночь, когда дверь наконец открыли. Коридор был опять полон полицейских. Они оставили лишь узкий проход. Снаружи ждали крытые грузовики.
Космаса бросили одним из первых, он оказался в глубине грузовика, в самом углу. Рядом сидел парень с перевязанной головой. Он пошел на митинг со своей сестрой, они держались вместе и в полицейском участке. Но сейчас женщин посадили на отдельный грузовик. Когда машина тронулась, кто-то снова запел национальный гимн. Сидевшие с краю барабанили по бортам, надеясь, что кто-нибудь услышит их по дороге.
Никто не знал, куда их везут. Ехали они около часу. Когда отодвинули засовы и дверь открылась, Космас увидел, что машина стоит на темной улице у каких-то ворот. Из грузовика всех сразу же загнали в здание.
Здесь их передали в руки жандармов, прогнали поодиночке вдоль узкого полуосвещенного коридора и ввели в какую-то комнату. Там горели две тусклые лампочки. Воздух был спертый, пахло мочой и табаком. В углу лежали четыре человека. Вероятно, они находились здесь уже давно: у каждого был матрац, одеяло, на стене висели полотенца. Кроме Космаса в камеру ввели еще десять человек.
— А, целая партия! — сказал кто-то из старожилов, и все рассмеялись.
— Чтоб не скучно было, господин Андреас, — ответил жандарм, запирая дверь.
Старожилы поднялись с матрацев.
— Ну, что случилось, ребята? Почему пригнали такой оравой?
— Может, есть папиросы? У кого-то нашелся табак.
— Ну, валяйте устраивайтесь и исповедуйтесь. Откуда вас перевели?
— Нас схватили сегодня.
— Садитесь. Сюда. На одеялах вши кишат.
— Куда мы попали?
— Ко вшам в гости.
Дверь отворилась. Вошли два итальянца — офицер и солдат.
Офицер что-то спросил по-итальянски, и солдат перевел его слова жандарму, вошедшему вслед за ними.
— Почему их привели сюда?
— Остальные камеры переполнены, там и ступить-то некуда! — ответил жандарм.
Солдат перевел. Офицер задумался и сделал несколько шагов по камере.
— Кто здесь майор Вардис?
— Я.
Один из старожилов вышел вперед. Это был хорошо сложенный, широкоплечий мужчина среднего роста. Широкий лоб, густые, сросшиеся брови, волосы с легкой проседью.
— Вы знаете, за что попали сюда? — перевел солдат вопрос офицера.
— Понятия не имею. Ломаю себе голову и ничего не могу придумать.
Офицер усмехнулся. Он несколько раз прошелся по камере и снова заговорил:
— Вы обвиняетесь в заговоре против итальянских и немецких оккупационных властей.
— Против двух властей сразу? — переспросил майор и улыбнулся. — Скажите ему, чтобы он получше наводил справки: я пока еще не сошел с ума.
Солдат перевел.
— Что это значит? — недоуменно спросил офицер.
— Это значит, — ответил майор, — что я еще в своем уме и никогда бы не пошел на то, в чем меня обвиняют. В данных условиях это было бы безумием. Какой уж тут заговор, когда народ умирает от голода и войска стран оси продвигаются на всех фронтах!
— Значит, если бы страны оси не одерживали побед, вы могли бы принять участие в заговоре?
— Что было бы тогда, я не знаю. Во всяком случае, в подобном обвинении был бы еще какой-то смысл.
— И тем не менее вам предъявляется такое обвинение! — сказал офицер.
— Меня это не удивляет. Доносчики водятся в любой стране. Есть они и у нас. И они клевещут на честных граждан, чтобы выслужиться перед оккупационными властями. То же самое они делали при диктатуре.
— Почему вы не участвовали в войне?
— Меня не призвали. Если бы призвали, я выполнил бы свой долг. В те времена я был в немилости у диктатуры.
— Вы коммунист?
— Ненавижу любой тиранический режим.
— Но короля вы тоже ненавидите?
— Да, ненавижу. Я демократ, и мне ненавистна любая тирания — и правых, и левых.
— Господин Вардис, не согласитесь ли вы сотрудничать с нами?
Майор засмеялся.
— Ну, сами посудите, какое может быть сотрудничество между победителями и побежденными? Вы — оккупанты, мы — рабы. Сотрудничество предполагает равенство. Равенства нет, — значит, не может быть и сотрудничества. Любое сотрудничество с победителями было бы предательством.
Итальянский офицер выслушал это и улыбнулся.
— Хорошо! — сказал он и повернулся к офицеру жандармерии: — Остальных нужно убрать отсюда!
— Куда же их девать? Все камеры переполнены. Мы заняли даже кабинеты.
Итальянец подумал, но пришел к тому же решению.
— Здесь им нельзя оставаться! — переводил солдат. — О чем вы думали, когда принимали их?
— Хорошо, я отошлю их обратно.
— Если вам некуда их перевести, отправляйте обратно.
Арестованных снова вывели в коридор. Офицер приставил к ним двух жандармов, а сам последовал за итальянцами. Вскоре он вернулся с полицейским.
— Этих заберите обратно, — сказал он. — И куда их везти?
— Куда хотите. В участок, в управление — не знаю. Я их принять не могу.
— Ладно, — ответил полицейский. — У нас остался один грузовик. Я отвезу их в участок.
— Делай как знаешь. Ты один?
— Нас двое.
— Ну, валяйте.
— Пошли, ребята!
Их снова заперли в грузовике.
* * *
Когда машина двинулась, двое или трое затянули песню. Но никто их не поддержал. Все были измотаны. Космас тоже лежал в полном изнеможении. Автомобильная качка усыпила его.
Машина резко затормозила, и арестованные повалились друг на друга. Несколько минут они не двигались с места. Все молчали.
Потом дверь открылась.
— Эй вы, герои! — крикнул кто-то снаружи, и в дверь просунулись головы двух полицейских.
На улице было темно.
— Эй, вы! Живы? Вставайте скорее!
— Куда теперь? — спросил кто-то. — Что вы нас возите взад-вперед? Это вам не цирк.
— Ну вот, послушайте меня, — сказал полицейский. — Получилось так, что вы лишние. Никто вас не считал, никто вас не принимал. Чтобы духу вашего здесь не было!
Никто не тронулся с места.
— Да вы что, оглохли?
— Брось ты эти штучки! — ответили ему из глубины грузовика. — Что мы, в прятки играем?
— Давайте скорее, пока есть время! — опять крикнул полицейский. — Мы не обманываем вас, честное слово!
Парень, стоявший у самого края, спрыгнул и побежал. За ним прыгнул второй…
В тот момент, когда прыгал Космас, полицейский зажег спичку и осветил грузовик.
— Все? — спросил он.
Космас бросился бежать.
— Эй, ты! — вдруг услышал он окрик за своей спиной. — Да стой же… Космас!
Космас остановился. К нему бежал полицейский.
— Космас! Это ты? Да отвечай же!
— Я.
— Ты что, не узнал меня? Я Феодосис!
— Феодосис?
— Да, да! Сын твоей учительницы…
— Госпожи Евтихии? Феодосис?
Полицейский обнял его.
— Какими судьбами? — спросил он. — Как ты впутался в эту историю?
— Да и ты, посмотрю, запутался не меньше меня. А я совсем про тебя забыл, хоть мне и говорила твоя мать…
— Знаю. Вы встретились на контроле в Коринфе. Она мне писала.
— Феодору! — крикнул из темноты его товарищ. — Брось ты, наконец, своего земляка, мы опаздываем!
— Ты поезжай, — ответил Феодосис, — я пойду пешком. Разве можно бросать земляков?
Грузовик тронулся и с грохотом исчез в темноте.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Подножия гор еще покрыты мраком,
Но первые лучи восхода
Уж осветили пик Родопи.
Ионнис Грипарис
I
Однажды утром пришел Феодосис и увел Космаса с собой. Он был в штатском.
— Народ нас, полицейских, не больно-то жалует! — говорил он Космасу. — Еще немного — и, помяни мое слово, они будут кидаться на наши мундиры, как бык на красную тряпку. На днях меня едва не растерзали… Рабочие шли к министерству труда. Нас послали разогнать их и окружить на улице Стурнараса. Ну и дали же они нам жару, братец ты мой!.. Кое у кого даже оружие отняли! Я успел нырнуть в переулок, увидел открытое окно и прыгнул в него.
— Их-то я понимаю, — ответил Космас, — я другого в толк не возьму: чего ради ты связался с полицией?
Феодосис был немного старше его. Когда госпожу Евтихию перевели в их школу, он уже ходил в гимназию. Безупречный пробор, черные очки, отутюженные брюки и прогулки вдоль железнодорожной линии с местными модистками. Господин Периклис и Евтихия втайне гордились сыном. Они наняли француженку и учили его французскому языку, но, кроме слова «voila», Феодосис так ничего и не усвоил. И мальчишки, увидев его рядом с француженкой, кричали из-за угла: «Вувала!»{[37]}
Гимназию Феодосис окончил во время диктатуры. Он состоял в ЗОН{[38]}, но на сборы ходил редко, за что его выгнали из звеньевых и перевели в рядовые. Была у него страсть сочинять любовные письма. Он выучил наизусть «Вертера» и писал возвышенным слогом, с пышными эпитетами и метафорами, щедро расставляя восклицательные знаки и многоточия…
Самым верным клиентом Феодосиса был сын директора гимназии Арсенис, который заказывал ему по два письма в день и без малейших угрызений совести посылал сестре автора Йемене.
Потом Феодосис уехал в Афины и с тех пор не возвращался в провинцию.
— Приехал я сюда, сдал экзамены на юридический. Но у моих стариков, как ты знаешь, не хватило силенок содержать меня, пока не окончу, вот я и пошел в полицию. Сначала, скажу тебе, было неплохо. Во всяком случае, кое-как перебивался. А сейчас больше не могу. Нужно медленно, но верно менять позиции. Порохом пахнет, брат Космас, а мой нос не выносит таких запахов.
— Что же ты будешь делать?
— Феодосис нигде не пропадет, у меня тьма-тьмущая знакомых, и как бы ни сложились обстоятельства, я сумею устроиться. Вчера вечером столкнулся с одним дружком и замолвил за тебя словечко. У него магазинчик недалеко от Псирри. Хочешь пойти к нему счетоводом?
— Он спекулянт?
— Ну и сказал!.. Какой там спекулянт! Вырыл себе норку пересидеть непогоду и заработать пару грошей. Он славный парень. Немного болтун, но сердце у него золотое. Родом он из Смирны. Раньше работал в канадском посольстве. Но в начале войны канадцы дали стрекача. Вот Исидор и переключился на торговлю. Ну, так как, подходит?
Космас не отказался от решения вернуться в провинцию. Но первая попытка, которую он предпринял при помощи Феодосиса, была неутешительной. Контроль над железной дорогой перешел теперь в руки немцев, и чтобы получить пропуск, требовалось пройти целый ряд формальностей. Космас подал заявление, но ответа пока не получил. Нужно было на что-то жить, не обременяя больше Андрикоса. И Космас решил принять предложение Феодосиса.
* * *
Магазин Исидора находился в узком переулке возле улицы Святого Димитрия, неподалеку от площади Героев.
— Послушай, — сказал Феодосис Космасу, когда они подошли к магазину, — постарайся правильно понять Исидора. Он иногда говорит лишнее. Но ты не думай о нем плохо. Многие принимают его за коммуниста, это ерунда, он хороший парень и в политику не вмешивается. Вот разве немного болтун…
Когда они вошли в магазин, Исидор сидел за столиком и читал газету.
— О! — воскликнул он и бросил газету на стол. — Хорошо, что ты пришел, Феодосис, хоть словечком можно перекинуться, а то прямо помираю от скуки! Мои исчезли с самого утра, анафема на их головы!..
Магазин маленький и весь завален мешками. Пол, выложенный плитами, усыпан изюмом, обрывками веревок, окурками и прочим мусором. У двери два развязанных мешка, выставленных напоказ: в одном — черный коринфский изюм, в другом — белый. Много мух. Исидор не выпускал из рук линейку и то и дело пускал ее в ход. Над каждой казненной мухой он произносил некролог:
— Вот и получила по заслугам, грязнуха. Анафемы, собрались сюда со всего Псирри! Все время приходится быть начеку. Или они тебя, или ты их.
— Ну, полно тебе, Исидор! — усмехнулся Феодосис. — Съедят тебя мухи, что ли? Хватит сказки-то рассказывать…
— А ты что думал! Знаешь, отчего умер мой брат?
— Отчего?
— Его слопали мухи! Я не рассказывал тебе? Это случилось на второй год после того, как мы приехали в Египет…
— Да ладно, Исидор, перестань, сделай такую милость. Я забегу как-нибудь в другой раз, ты расскажешь мне про это, и мы выпьем по стаканчику узо{[39]}. А теперь слушай: я привел земляка, о котором мы вчера говорили.
— Говорили? А что именно?
— Тьфу, черт! Уже забыл?
— Нет, серьезно, Феодосис, разве у нас был такой разговор?
— Был. Вспомни, вчера мы столкнулись с тобой на улице Афины!
— Господь свидетель, ничего не помню. Может, я был под мухой, а, Феодосис?
— А ты хоть когда-нибудь бываешь трезвым?
— Пардон! Минутку!..
Он осторожно встал, прицелился линейкой и ударил по мухе, которая села на его бумаги.
— Неряха! Так и не образумилась. Она, видишь ли, уже разок побывала здесь, но удрала!
— О черт, ты метишь их, что ли?
— Зачем метить? Они тоже божьи создания, как и люди, а ты что думал? И все разные! Одни черноглазые, другие курносые, третьи усатые, четвертые безбородые — все как у людей, говорят тебе, нужно только уметь их различать.
— Ты опять за старое?
— Ха! Ты смотришь на них, как белые смотрят на негров. Попробуй скажи белому, что черные не на одно лицо. Он поднимет тебя на смех. Белый смотрит на черных как на инкубаторских цыплят. А ты поди поживи с чёрными, вот и увидишь разницу. Так и эти божьи создания.
— Ну, перестань ты!
— Да, да, я тебе говорю. Вот я сижу здесь и наблюдаю: у мух миллион физиономий и повадок, как у людей. Есть и бородатые. Сегодня утром прилетела одна такая и села мне на шею. Я глянул потихоньку в зеркальце — точь-в-точь Мари, жена моя. Хлоп по шее и…
— Нет, право слово, мы уже по горло сыты мухами.
Исидор засмеялся.
— Ну ладно. Мы и вправду говорили вчера вечером?
— Конечно! И ты сказал, чтоб я привел его сегодня утром.
— А зачем?
— Чтобы книги вести.
— Твоя правда, неплохая мысль. А сколько ему платить?
— Ну, сколько? Чтоб мог жить человек. Капитала заводить он не собирается.
— По рукам. Я не возражаю. Вот только, — он понизил тон и обернулся к Космасу, — не будет у меня с тобой хлопот по той самой части?
— По какой? — спросил Космас.
— Может, ты, милый друг, красный? Я тебе все, что хочешь, сделаю, душу отдам, но только не впутывай меня в такие дела, терпеть этого не могу. Я, если хочешь знать, за гражданскую войну, за материализм… Черные силы… борьба классов, бандьера росса и так далее, но важнее всего для меня я сам, Исидор, и другого бога у меня нет. Понял?
— Да я…
— Что? Только не рассказывай мне сказок, будто ты не красный! Теперь все красные. Ты не смотри, что они в этом не сознаются. Разве они дураки? Все теперь покраснели: кто от взглядов, кто от стыда…
В эту минуту в магазин кто-то вошел.
— Вот и Манолакис! Иди сюда, пролетариат! Я должен сказать вам по секрету: Манолакис тоже красный!
Вошедший растерянно оглянулся на дверь.
— Боже мой! Исидор, сынок! Что за шутки?
— Подлый старикашка! Уже напустил в штаны. Иди сюда, я представлю тебя новому начальнику. Так вот он красный, только не от идеологии, а от стыда. Когда-то он владел дворцами, а сейчас продает изюм и сигары. У, пропади ты пропадом!..
— Ах, Исидор, у тебя же, сынок, золотое сердце, так зачем же ты меня огорчаешь?
Сморщенное, прокопченное лицо, покорные глаза старого вола. Скулы торчат, передние зубы выпали, рот провалился, зато нос и челюсти выдались вперед. Лоб скошенный, цвет лица мертвенный, уши большие и волосатые. На голове коричневая шляпа с обглоданными полями. Коричневый костюм из толстой бумажной материи в клетку, но клетки почти неразличимы из-за грязи. Манжеты брюк свисают клочьями, обнажая грязные ноги и большие стоптанные ботинки.
— Ну как? — спросил Исидор. — Продал сигареты?
— Продал, сынок!..
— Вот мошенник! Люди принимают их у него из рук, словно просвирки, и знать не знают…
— Прошу тебя, Исидор, я больше не могу…
— И знать не знают, что он подсовывает им навоз вместо табака.
— Господь свидетель! Зачем, сынок, так зло шутить надо мной?
— Какие там шутки! Ты что, забыл про бочку с виноградным сиропом? Так вот, Манолакис…
— Да будет тебе, Исидор, — сказал Феодосис, — я уже тысячу раз слышал об этом.
— Погоди! Дай послушать Космасу, надо же ему знать, с каким типом он имеет дело. И, кроме того, скоротаем время, дорогой Феодосис. Я ведь говорил тебе, что с самого утра молчу, как рыба!
Манолакис взглянул на Исидора, как побитая собака.
— Нет, ей-богу, Исидор, креста на тебе нет!
— И как у тебя, старый грешник, язык только поворачивается поминать бога? Опять мучеником прикидываешься?
Манолакис согнулся в три погибели, юркнул в угол и сел на весы, что-то бормоча себе под нос.
— Так вот, приходит ко мне Манолакис и начинает скулить: «Не дадите ли вы мне, господин Исидор, бочку виноградного сиропа, чтоб продать в розницу?» Посмотрел я на него, горемыку. «Ну ладно», говорю, ведь и ему тоже есть надо. Разве не так оно было, говори!
— Ах, Исидор, Исидор! Ты всегда готов человека смешать с грязью!
— Вот видите, теперь он заботится о своем престиже! О каком престиже может идти речь, анафема, если ты собственными руками утопил его в бочке с сиропом? Ну, слушайте дальше, ребята. «Ладно, говорю, забирай». Забирает он бочку и отправляется с ней на площадь. Жду неделю, жду другую — словно в воду канул, да еще деньги с собой прихватил. «Вот подлец! — думаю. — Когда он вернет мне деньги, я не смогу купить на них даже пачку сигарет». Наконец является ко мне с полной бочкой. «Не продал, — спрашиваю, — Манолакис?» — «Не повезло, господин Исидор!» — «Ну, не беда. Попробуй еще раз». — «Нет, видно, не умею я этого, господин Исидор». Оставил он мне бочку. Я продал сироп за один час. На другой день приходит взбешенный покупатель. «Прекрасно, господин Исидор! Теперь, значит, чистую водичку за виноградный сироп продают?» — «Какую такую водичку?» — «Да вот такую: сверху слой сиропа, а внизу вода». Видали подлеца? Мало того, что ограбил, так еще и опозорил, дискредитировал фирму…
— Ну, полно… — пролепетал Манолакис.
— Что? Ах ты сморчок! Дискредитировал фирму, а туда же, каждую субботу требует прибавки. Ни в жизнь тебе этого не забуду, бессовестный! И буду пилить, пока Черчилль второй фронт не откроет. Потом сгинул мой Манолакис. Месяц спустя встречаю его возле Монастыраки. Увидел меня, растерялся. «Не бойся, — говорю. — Давай руку! Ну, поздравляю: тебе первому удалось обвести меня вокруг пальца. Такому ловкачу грех пропадать задаром. Иди-ка ты работать ко мне в магазин». — «А сколько вы платить будете?» — «Девяносто процентов своих доходов, только иди, сделай милость!» Вот так и появился у нас этот старый мошенник. Даром жрет изюм, а толку от него ни на грош, разве что обвесит какую-нибудь женщину или сплавит папиросы с пометом вместо табака. Ни на что другое не годен, подлец!
* * *
В магазин вошел третий компаньон. Невысокий, смуглый, с усиками, в сдвинутой набекрень кепке, он ворвался, как тайфун, и сразу бросился к мешкам.
— Ну что смотришь? Иди сюда, чертова кукла! — крикнул он Манолакису. — Передал Исидору, что я велел?
— Да я только что пришел, сынок.
— Чтоб тебе провалиться на этом месте! Врешь перед всем честным народом!
— Да что с тобой, Анастасис? — спросил Исидор.
— Ах, Исидор, и ты тоже…
Однако с Исидором он говорил куда мягче.
— Ах, Исидор, нашел я одного клиента. Через четверть часа будет здесь. И я сказал этому паршивцу — разве не сказал? «Поди, говорю, извести Исидора». Нашел я, понимаешь, клиента, удобнейший случай сбагрить подмокший изюм. Он гонит из него узо. — И к Манолакису: — Держи, слюнтяй!
Манолакис взялся за мешок. Руки у него дрожали. Анастасис работал молча и споро. Он перетаскивал мешки, развязывал их, часть изюма отсыпал Манолакису и восполнял убыль из другого мешка. Его сильные руки двигались, как рычаги.
Исидор заговорил с Феодосисом тихо, но так, чтобы слышал Анастасис:
— Анастасис у нас столп фирмы. Волк! А ты думал, на Манолакисе она продержится? На этом трутне? Бедняга Анастасис прямо горит на работе. И я этого не забуду. Когда придет освобождение, я надену шляпу — и будь здоров! Хозяином оставлю Анастасиса… Послушай, Анастасис, теперь тебе будет полегче, у нас новый сотрудник.
Анастасис выпустил мешок из рук и впился глазами в Космаса.
— Космас будет у нас работать.
— Очень приятно. — Лицо Анастасиса перекосилось. — Будет вести книги.
— Ясно.
Мешок накренился, изюм рассыпался по полу. Анастасис схватил старика за горло.
— Ах ты падаль! Чтоб тебя!..
Голова старика ударилась о доски и свесилась набок.
— Эй, Анастасис! — закричал Исидор и встал. — Ты что ж делаешь?
— Да я же говорил ему, Исидор, — голос Анастасиса звучал на полтона ниже, — я же говорил этому болвану: «Держи, говорю, золотце, мешок». Берется, оболтус, а руки у развратника дрожат…
— Мать божия! Не могу я больше, Исидор…
— Расхныкался, ублюдок! Враль, нюня! Нет, на мое мучение ты взял его, Исидор! Держи, тебе говорят, нужно дело делать.
Манолакис протянул руки и снова взялся за мешок. Анастасис принялся за работу. Руки его мелькали, как поршни. Лоб покрылся потом. Время от времени Анастасис подбегал к двери и украдкой выглядывал на улицу. За несколько минут он провернул всю работу. Манолакис взобрался на весы и закурил сигарету.
— Дай мне твою паршивую сигарету, — сказал ему Анастасис.
Старик снял со стены сетку, вынул пачку сигарет и вскрыл ее.
— Одну, сынок?
— А сколько же? Или ты думаешь, что я куплю у тебя целую пачку?
— Как хочешь, Анастасис.
— Как хочу! Нюня…
Он прикурил и сел на мешок. Манолакис вынул бумагу и карандаш.
— Что, запишешь и эту сигарету?
— Да, Анастасис, ведь ты еще не заплатил за вчерашнюю.
— С ума спятил? Я каждый вечер тебе плачу!
— А вчера ты ушел рано, сынок. Тасия зашла за тобой, помнишь?
— Гм! Нет, каков! Ничего не упустит!
Анастасис встал и, пыхтя папиросой, зашагал по магазину.
— Сейчас, Исидор, придет клиент. Отправился за золотыми. Обязательно придет.
Слово «придет» он выговаривал с улыбкой, потирая руки и забыв обо всем на свете: об усталости, о стычке с Манолакисом и о той неприятности, которую ему доставило появление Космаса.
— Пардон! — неожиданно воскликнул Исидор и спрыгнул со стула, будто его кольнули иголкой. — Сейчас, когда Анастасис здесь, я могу отлучиться на минутку.
И он стремительно направился к двери.
— Куда ты опять идешь, Исидор? — с усмешкой спросил его Анастасис.
— Помилуй, Анастасис, уж и по малому делу нельзя сходить?
Когда Исидор вышел, Анастасис сел на его место за стол.
— По малому делу! Будто мы слепые! Все, милый Феодосис, сидят у меня на шее. И этот старый прощелыга, и хозяин, который через каждые полчаса изволит бегать по малому делу. Я-то знаю, что он бегает в соседний бар и пропускает там по стаканчику. Пьянчуга!
— Ну, теперь у тебя будет Космас! — сказал Феодосис.
— А… Ну что ж, будем работать вместе. Что ж. С удовольствием. — Анастасис надулся и принял важный вид. — Так как, дружок, тебя зовут?
— Ты уже слышал! — резко ответил Космас. — Не сердись. Я не сказал ничего плохого. Правда, Феодосис? Наоборот, Космас, я рад. Я уверен, что мы будем друзьями.
II
Манолакис был в лавке последней спицей в колесе. Недельный заработок Исидор выдавал ему по понедельникам. Но к субботе деньги теряли свою ценность, и ему едва хватало на трамвай. Со среды Манолакис начинал клянчить у Исидора прибавку. Перед Исидором он не робел, но как огня боялся его шуток. Перед Анастасисом дрожал. Когда Анастасис находился в магазине, Манолакис, как щенок, забивался в угол, Анастасис видел это и наслаждался своей властью.
— Эй, вонючка, тебя погубили пороки. Ты знаешь, Космас, ведь у его милости есть рояль. Ну как же, без порток, а в шляпе. Скажи, почему ты не продал его на днях, когда Сумпасакена из соседнего дома совала тебе под нос тысячи?
Не проходило и дня, чтобы в магазине не вспоминали эту историю. То и дело появлялись спекулянты, на все лады уламывавшие Манолакиса продать рояль. Один давал ему золото, другой предлагал заплатить кредитками, третий — товаром. Но Манолакис стоял на своем. Он готов был душу продать, но только не рояль.
Ключи от магазина хранились у Исидора. Он приходил рано утром и отпирал лавочку. До десяти часов он сидел за столом, не вставая с места. За это время производились все торговые операции. Они заканчивались к десяти, самое позднее — к одиннадцати. Потом ждали сведений о падении ценности денег. Каждые полчаса Исидор отлучался в соседний бар, возвращался в приподнятом настроении, и вот тут-то и начинались мучения Манолакиса: снова вытаскивали на свет операцию с бочкой, продажу папирос с навозом, старые истории, о которых Манолакис имел несчастье проговориться, — например, о случае с немцами, раздевшими его в магазине, чтобы убедиться, что он не еврей. Манолакис занимал привычное место на весах и старался пропускать шутки мимо ушей. Он ждал двенадцати. В этот час Исидор уходил обедать, после обеда он спал и возвращался только вечером, чтобы закрыть магазин. У него было два замка. С одним из них он никогда не мог справиться и поэтому попросту вешал его на дверь. Анастасис стоял рядом и попрекал:
— Эх, Исидор, пустишь ты нас по миру!
Итак, в полдень, когда уходил Исидор, в магазине оставались только Манолакис и Космас. Анастасис, как ищейка, рыскал по базару, от магазина к магазину, от тележки к тележке. Он ловил запоздавших покупателей, чтобы заключить с ними сделку на завтра.
Когда они оставались одни, Манолакис принимался изливать бесчисленные жалобы, в первую очередь на Анастасиса. Когда Манолакис говорил о нем, его кроткие глаза мутнели, зрачки расширялись, руки дрожали — он был похож на рассерженного зверя.
Манолакис происходил из аристократической константинопольской семьи. Пока он жил на родине, жизнь его была сплошным праздником. Путешествия по Европе, приключения, многочисленные и очень фривольные. Поначалу он с увлечением рассказывал о них Исидору и Анастасису, но те вскоре начали издеваться над стариком. «Разврат», — говорил Анастасис. Поглядывая на Манолакиса, Космас раздумывал: «Неужели это страшилище могла полюбить хоть одна женщина?» С уст Манолакиса слетали истории, одна невероятнее другой, множество подробностей, которые с болезненной тщательностью хранила его старческая память. Он оживал, нервно жестикулировал, потухшие глаза горели, лицо теряло мертвенную бледность. Во всех историях фигурировали женщины. Любимой героиней рассказов Манолакиса была неаполитанская танцовщица Джованна. Из любви к нему она бросила сцену и осталась в Константинополе. Манолакис снял для нее виллу на Принцевых островах. Джованна умерла в его объятиях в пылу страсти.
Обстоятельства ее смерти все еще волновали Манолакиса; каждый раз, возвращаясь к ним, он весь покрывался потом, глаза сверкали, но когда рассказ подходил к концу, они угасали, и Манолакис с трудом переводил дыхание, словно и в самом деле еще держал в руках свою прекрасную неаполитанку. «Вранье, — говорил Исидор, — он вычитал все это в «Тайне Боспора»{[40]} и теперь выдает нам за свои приключения». — «Да нет, сынок, нет, если я вру, пусть лопнут мои глаза! Из-за Джованны мы с женой чуть-чуть не развелись. Вот как-нибудь зайдет сюда моя дочка Джульетта, спросите у нее, она вам скажет. Ах, какая драма разыгралась тогда у нас дома!..»
За несколько лет до начала последней войны Манолакис с семьей приехал в Грецию. Его брат, занимавшийся торговлей, связался с какой-то бельгийской компанией и обанкротился. Все их имущество пошло с молотка. Остался лишь дом, записанный на имя жены. Они продали его и купили маленькую квартирку в Афинах, в Калитеа. «Стависский, жулик международного масштаба! — говорил Исидор. — Надул Бельгию и еще меня, бедного труженика, в придачу. Украл мою бочку с сиропом!..»
Оставаясь наедине с Космасом, Манолакис отводил душу.
— Исидор золотой человек. Но как бы тебе это сказать? Для него ничего нет святого. Он на все способен, лишь бы ему было хорошо. Конечно, он не какой-нибудь хапуга вроде Анастасиса, но ради покоя и благополучия продаст собственную жену.
Зимой прошлого года Исидор остался без работы и едва не умер с голоду. Тогда он купил тканей и уехал в провинцию менять их на пшеницу. В Наусе{[41]} Исидор женился. Жена была лет на десять старше его, зато из богатой семьи — и пшеница, и овцы… Исидор привез жену в Афины. Он продал зерно, снял магазинчик в Эксархии{[42]} и стал торговать молочными продуктами, которые привозили из Наусы его деверья. Жена страшно ревновала Исидора. Стоило какой-нибудь женщине раза два появиться в магазине, как жена начинала ворчать и браниться. Исидор купил патефон с рупором и, едва жена принималась за свое, заводил патефон и совал голову в рупор. В январе они уехали в деревню к жене. Исидор сказал, что продал магазин и решил жить в деревне. Несколько дней они прожили вместе, а потом Исидор удрал в Афины. Магазин в Эксархии он сдал в аренду, а сам снял лавочку на Псирри и стал торговать изюмом и сиропами. Квартиру он тоже сменил и женился на своей землячке Мараки. Это было крохотное безобидное существо, которое никогда не ворчало. Мараки курила. Исидор покупал для нее сигареты у Манолакиса. Сигареты были большие и толстые, и трудно было поверить, что Мараки может удержать такую сигарету в своих маленьких пальчиках. Первую жену, из Наусы, Исидор оставил беременной.
— Ну и что же с ним будет, сынок? — спрашивал его Манолакис. — Что же будет с ребенком?
— Что с ним может быть? То же, что и со всеми детьми в мире. Придет время, ребенок выйдет из чрева матери, акушерка перережет пуповину, и он начнет себе жить-поживать. Так оно и будет!
— Без отца?
— А на что ему отец? Отец свое дело сделал. А там и без него обойдутся.
— Он вырастет и проклянет тебя.
— И это говоришь ты, старая развалина? С какой это стати он меня будет проклинать? Помнишь, что сказал Ригас Фереос перед казнью? Он сказал: «Я посеял семена, из них вырастет дерево». И теперь мы преклоняемся перед Фереосом и ставим ему памятники. Вот так же будет преклоняться передо мной мой ребенок, преклоняться, а не проклинать!
— Да он же не будет тебя знать, Исидор!
— Как так не будет знать? Узнает! Когда он подрастет и ему скажут, что он сын Исидора, то он просто запляшет от радости. Вот увидишь, сразу примчится посмотреть на меня.
Разговоры в магазине не прекращались ни на минуту. Единственным человеком, никогда не принимавшим в них участия, был Анастасис. Работы у него было по горло. Большую часть времени он проводил на рынке, но иногда запирался в магазине и начинал колдовать. Он разбавлял водой виноградный сироп, перемешивал изюм, — словом, трудился в поте лица. Случалось, Анастасис копался в магазине до темноты, и возвращаться домой было уже поздно, тогда он засыпал прямо на мешках. Там и находил его утром Исидор.
— Эй, Анастасис, отгрызут тебе мыши усы!
У Анастасиса были маленькие усики ниточкой. Сам он был низкорослый, крепко сбитый, чернявый и здоровый, как бык. От него пахло выгребной ямой, одежда пропиталась слизью жухлого изюма. Погрузку и разгрузку изюма производил он сам, и Исидор заносил это ему в счет.
В начале войны Анастасис отбывал военную службу на складах 6-го госпиталя. Когда немцы подходили к Афинам, он уволок вещи со склада к себе домой. Жил он на квартире у хозяйки кабаре Тасии, на которой потом и женился. Однако вскоре на Анастасиса донесли, и немцы отобрали у него все похищенное.
Когда он впервые пришел в магазин, своего капитала у него не было. Но уже через три месяца половина вложений магазина принадлежала ему. Тем не менее он получал только тридцать процентов прибыли, потому что владельцем магазина оставался все-таки Исидор, и если бы он захотел, он мог бы выставить Анастасиса за дверь. Иногда в отсутствие Исидора Анастасиса прорывало:
— Все, черт их побери, все сидят на моей шее! Им, видите ли, нужно переждать бурю. А я? Для меня сейчас самое время выбиться в люди. Этот бездельник работает только на свой желудок, а я, болван, вкладываю деньги в оборот магазина. Через два-три месяца весь оборот будет держаться за счет капитала Анастасиса, а сам Анастасис будет по-прежнему получать тридцать процентов. Вот оно как!
Болтовню в магазине Анастасис слушал неохотно, но когда Исидор переводил речь на политику, Анастасис не выдерживал:
— Эй! Что вы делаете? Погубить меня хотите? Бросьте этот разговор. Заткнись и ты, развалина! — Он хватал Манолакиса за горло. — Не сегодня-завтра подохнешь, а туда же, в политику полез! Думали бы вы лучше о своем кармане, чем рассуждать о политике!
Каждый вечер Исидор покупал газету за счет магазина. Если продавец газет приходил в отсутствие Исидора, Анастасис пинками выставлял его за дверь.
— Пошел вон! И заруби себе на носу: чтоб ноги твоей здесь больше не было!
Однажды в магазин пришли с обыском немцы. Анастасис пожелтел, как лимон.
Когда немцы ушли, он завопил:
— Говорите, что вы натворили! Достукались! Дожили, гестапо является! Мама родная, они в гроб решили меня загнать!..
Но испуг был напрасный. Немцы учинили поголовный обыск во всех магазинах и жилых домах квартала. Позже узнали и причину: ночью бежали двенадцать пленных англичан, большинство из них — офицеры.
Анастасис воспрянул.
— Вот мерзавцы! Всех их сцапают, помяните мое слово. А я уж думал, Исидор, что этот старикашка набедокурил и полетят наши бедные головы. Время сейчас такое…
— Плохо, милый Анастасис, очень плохо, — говорил Исидор. — Так потерять самообладание…
— Да нет, Исидор, я, видишь ли, думал, что эта поганка… Шутка ли? Я уже погорел однажды…
— Ну уж, и погорел!
— А ты думал, Исидор! Если б тогда вышло со складом, у меня сейчас был бы свой магазин. Чтоб им пусто было, разорили меня, подлецы!
Вторую облаву на англичан устроили в тот же вечер. Немцы обещали крупную награду за каждого пойманного англичанина, за офицера двойную. Укрывателям расстрел на месте.
— Слава богу, пронесло! — Анастасис перекрестился.
— А если какой-нибудь беглец явится в магазин?
— Типун тебе на язык, Исидор! Для него самого лучше не являться.
— А что бы ты тогда сделал, Анастасис?
— Что за вопрос! За ушко да на солнышко!
— Но ведь это предательство!
— Чепуха! Что для нас какой-то английский солдат? А для меня, ребята, это… Во-первых, свою шкуру спасу. И, во-вторых, награду получу! Мало, что ли?
III
Теперь Космас жил на углу той же улицы. Большой трехэтажный дом принадлежал судье Кацотакису. Первый этаж и подвал снимали купцы. На втором этаже находились кабинет судьи и его библиотека. Там же был большой зал-гостиная. Судья со своей семьей жил на третьем этаже.
Комната, которую снял Космас, была расположена в пристройке между вторым и третьим этажами, возле железной винтовой лестницы, поднимавшейся до самой крыши.
Судья оказался старичком, сохранившим кое-что от довоенного благополучия: золотые очки, часы с двойной крышкой, на золотой цепочке, цилиндр и галстук-бабочку. Наблюдая, как величественно спускается он по лестнице, можно было подумать, что внизу, у подъезда, его ждут лимузин и лакей в белых перчатках.
Жена судьи, госпожа Георгия, была намного моложе своего мужа. Ее облик еще не утратил следов былой красоты. Длинные изогнутые брови, пышные волосы, стройная, тонкая фигура. И хотя ее лицо, лицо пожилой женщины, уже потеряло свежесть, оно все же привлекало взгляд классической правильностью своих черт. Прежними остались манеры, походка, движения рук, улыбка, утонченность речи — все это напоминало далекие и счастливые годы ее весны.
Дочь унаследовала красоту матери. Космас еще не видел ее, но был о ней наслышан: все бакалейщики улицы сгорали от любви к дочери судьи. Манолакис сказал, что она удивительно похожа на Джованну. Это был единственный случай, когда Анастасис слушал его, не жалея о потерянном времени.
— Хороша! Всего капитала не пожалел бы!
В его устах это было наивысшей похвалой.
Был у судьи и сын Джери, студент Высшей школы экономики и торговли. Космас видел его мельком раза два: высокий, худой юноша с белокурой шевелюрой торопливо сбегал по лестнице.
По пятницам в доме Кацотакисов устраивались вечера, на которые приглашались старые и новые друзья семьи. Расходы по ужину брали на себя гости. Все они были купцы, поклонники Кити. Когда-то салон Кацотакиса посещал Исидор: некоторое время он снимал комнату, в которой сейчас жил Космас. Но потом его вытеснил новый гость — торговец сыром Бевас. И появился Бевас в тот самый момент, когда Исидор уже расставил сети своей интриги. О том, как это произошло, Исидор рассказывал каждый раз по-новому.
У Беваса был магазин в доме судьи — большое угловое помещение с четырьмя дверьми. До Беваса им владел оптовый торговец, но он обанкротился и накануне войны покончил самоубийством.
На антресолях магазина была дверца, выходившая в кабинет судьи, запиралась она со стороны кабинета. Через эту дверцу по ночам спускались в магазин члены семьи Кацотакиса и понемногу уносили с собой отборные сыры и масло. Торговец почуял неладное.
Однажды ночью, оставшись в магазине, он поймал госпожу Георгию и ее дочь на месте преступления. Мать он сразу же отпустил, но дочь задержал и, как злорадно рассказывал Исидор, выпустил ее только под утро через центральный выход. Кто знает, была ли в этой истории хоть крупица правды! Во всяком случае, Бевас был одним из завсегдатаев в салоне старого судьи.
Как-то раз в лавчонку Исидора зашла Кити. На улице стояла жара. Кити была в узком бежевом платьице с короткими рукавами. В магазине находились Анастасис, Манолакис и Космас. Анастасис с Манолакисом перемешивали изюм. При появлении девушки они оставили мешки. Манолакис галантно поклонился.
— Наконец-то, мадемуазель Кити… Наконец-то мы видим вас в нашем магазине…
И улыбнулся, обнажив два желтых, искрошенных клыка, торчавших на голых деснах.
Кити была красива. Сама молодость! Шоколадный загар, черные горячие глаза. Половину лица закрывали густые каштановые волосы, мягкой волной ниспадавшие на лоб и покрывавшие плечи.
Она пришла за Космасом. В его комнате осталась швейная машинка, сейчас она понадобилась. Дом находился в ста метрах от магазина. Шагая рядом с Кити, Космас чувствовал на себе взгляды бакалейщиков, хитро и нагло рассматривавших их из-за дверей и окон. Он сгорал от стыда и едва осмеливался взглянуть на упругую фигурку Кити, — обтянутую узким платьем. До самого дома они не сказали ни слова. И только когда они вошли в подъезд и закрыли за собой дверь, Кити проговорила:
— Извините, что я оторвала вас от дела.
Она улыбнулась, но по ее ломкому, прерывающемуся голосу Космас понял, что она в таком же замешательстве, как и он. И это еще больше смутило его. Он не нашел ничего лучшего, чем сказать: «Ну что вы!» И ему почудилось, что эта глупая фраза повисла где-то под потолком большого вестибюля и холодное эхо беспощадно повторяет ее.
Он направился к железной лестнице.
— Не трудитесь подниматься, мадемуазель, я вынесу вам машинку.
— Нет! Я пойду с вами!
Она бегом поднялась по лестнице. На ногах у нее были красные сандалии и белые носочки.
Перед дверью она остановилась — Космас должен был отпереть замок. Он долго копался в связке магазинных ключей, а когда нашел ключ от двери, Кити вдруг выхватила его.
— Дай! Ты не умеешь!
Прикосновение ее руки, это внезапное «ты»… Они оказались в комнате с глазу на глаз, и Космас совершенно не знал, что делать, о чем говорить. В углу он увидел машинку, подбежал и поднял ее.
— Вы не сможете сами. Она тяжелая. Я отнесу.
Кити стояла возле стола и осматривала комнату.
— Когда я была маленькой, здесь лежали мои игрушки. В этой комнате жила бабушка.
Она наклонилась над столом, заваленным книгами. Космас продолжал стоять с машинкой в руках.
— Читаешь? — спросила она. — Что читаешь? — И взяла в руки книгу.
Посмотрев на обложку, Кити перелистала несколько страниц, положила книгу и взяла другую.
— Что ты читаешь?
— Вот это…
На стуле рядом с кроватью лежал открытый томик. Кити заглянула в него.
— Тебе нравится Кавафис? — И не стала ждать ответа: — Пошлость!
На каждый сэкономленный грош Космас покупал книги на улице Академии или Исократа. Чаще всего это были серии «Общества по распространению полезных книг», продававшиеся целыми ящиками за бесценок.
— Ты студент?
— Пока нет. Но как только уладятся дела, я думаю сдавать экзамены.
— Куда?
— Скорее всего на филологический.
— Я так и думала. Тебе подойдет быть филологом.
— Почему вам так кажется?
— М-м… не знаю! Но ведь это так! Филология дело неплохое. Только уж очень много возни с древним языком и грамматикой. Папа хочет, чтобы я пошла на медицинский… Гм, врачиха… Не люблю я врачих. А ты?
— Как вам сказать…
— А ты наверняка пишешь стихи.
— Я?
— Ты. Разве не пишешь?
Вероятно, он выглядел очень смешно — онемевший от изумления, с машинкой в руках.
— Значит, пишешь! — уверенно сказала Кити. — Поэт!
И побежала к двери.
— А! Машинка! — вдруг вспомнила она, подошла к Космасу и попыталась взять машинку, из его рук. — Тяжелая! Так ты донесешь ее? Ну ладно!
И Кити выбежала.
Когда они поднялись на третий этаж, Кити громко позвала мать и скрылась. Госпожа Георгия вышла к Космасу в переднике, с сеткой на волосах. Очень вежливо, с любезной улыбкой, она долго благодарила его за то, что он принес машинку, и так же долго просила прощения за беспокойство.
Кити больше не появилась.
* * *
Когда Кити была у него в комнате, Космас хотел только одного — чтобы она поскорей ушла. И, спускаясь по лестнице, он испытывал облегчение оттого, что наконец остался один.
В магазине, занявшись работой, он поначалу почти позабыл о Кити. Но потом все чаще ловил себя на мысли, что тайком от самого себя чего-то ждет. И тогда его сердце начинало биться, он нервничал и старался не думать о девушке.
И все же она вставала перед его глазами.
IV
Утром, спускаясь по лестнице, Космас предчувствовал, что встретит Кити. Он так волновался, что почти бежал по коридору, торопясь поскорее выйти в вестибюль.
Кити меняла шторы на окнах. Она была в длинном домашнем халате, в волосах розовая ленточка. Услышав шаги, Кити оглянулась.
— А! Поэт! Я жду, когда спустится Джери и поможет. Видишь, занавески высоко, мне не достать.
Занавески и в самом деле висели высоко, но Космас рассердился за то, что она опять назвала его поэтом.
— Во-первых, доброе утро, — сказал он и попытался улыбнуться.
— Доброе утро. А во-вторых?
— Во-вторых, я не поэт.
— Ну хорошо, я больше не буду. Хотя голову даю на отсечение, что ты пишешь стихи.
Космас действительно грешил стихами, и догадка Кити его расстроила.
— А в-третьих? Есть и в-третьих? — спросила Кити.
— Никакого в-третьих нет.
— Нет, есть. В-третьих, ты должен мне помочь. Обопрись о стенку и сними сначала эту штору.
Космас быстро вскарабкался по дверной решетке и, опираясь ногой о стену, сдернул занавеску. Когда он спускался, его правая рука коснулась плеча Кити.
— Браво! — сказала она. — А теперь вон ту!
Космас покорно повиновался. Им снова овладела растерянность. Он еще раз забрался на дверь, снял вторую штору и хотел было опять опереться на плечо Кити, но она отстранилась.
— Спасибо! — И, схватив занавески, вприпрыжку побежала по лестнице.
Космас шагнул к двери.
— Послушай! — окликнула его Кити.
Она стояла на середине лестницы. В длинном халате, касающемся ступенек, она казалась еще красивей, чем вчера.
— Сегодня пятница. У нас, как всегда, вечер. Приходи.
— Не могу, — машинально ответил Космас.
Она резко повернулась и побежала через две ступеньки.
— Мадемуазель Кити, простите! Сегодня вечером… Мадемуазель Кити…
Она не обернулась.
В обед Космас не пошел домой. Вечером вернулся очень поздно. Ему не хотелось встречаться с Кити. Ее вызывающая манера держаться раздражала его. Но Кити ему нравилась, очень нравилась, и было больно видеть ее такой нескромной. Он сердился на себя за то, что не мог противиться своему чувству, а в ее присутствии робел и становился смешным.
Прошло несколько дней. Кити он так и не видел. Каждый день Космас ждал, что вдруг столкнется с ней в коридоре, и старался пройти как можно быстрее. Но, выходя на улицу или закрывая дверь своей комнаты, он испытывал чувство горького разочарования… В эти минуты ему до боли хотелось видеть ее.
И с каждым днем Космас все больше замедлял шаги, проходя по коридору. В конце концов он стал без всякого предлога спускаться по лестнице, то и дело бегал из магазина домой и обратно и целыми часами простаивал в коридоре: ждал, не появится ли Кити. Она не появлялась. В вестибюле висели все те же шторы. Никто и не думал их менять.
По пятницам по-прежнему устраивались вечера.
Космас начал писать стихи.
* * *
Было воскресное утро. Космас встал рано, зашел в кафе и, вернувшись домой, погрузился в чтение. Неожиданно в дверь постучали; прежде чем он успел откликнуться, в комнату вошла Кити, держа за руку брата.
— Вот и философ! Я привела тебе брата, хочу, чтоб вы познакомились.
Она говорила оживленно и весело.
— Я давно уже хотел познакомиться с вами, — приветливо сказал Джери.
— Только, пожалуйста, не на «вы»! — приказала Кити. — Джери тоже поэт. Пишет сонеты и всякую чепуху.
— Не скрою, была у меня такая слабость. Но сейчас я от нее уже избавился. Старик хочет сделать из меня предпринимателя. А торговля и поэзия…
Слово «старик» резануло слух Космаса. Оно было явно заимствовано и, как видно, недавно: Джери сам не совсем еще к нему привык.
Космас пригласил их сесть.
— Нет, спасибо, — отказался Джери, — у нас нет времени. Мы едем в Психико, к тете. Я силой затащил сюда Кити, чтобы она нас познакомила. Не знаю, в чем дело, но она ни за что не хотела идти…
— Вот еще! — сказала Кити, направляясь к двери. — Да мне все равно.
Она остановилась в дверях и в упор посмотрела на Космаса. В ее взгляде были упрямство и вызов. Она прикусила нижнюю губу: верхняя пухлая, подернутая нежным пушком губка вздрагивала.
— Мы должны видеться почаще, — сказал Джери. — Ведь нам есть о чем поговорить.
— Джери! Скорее! — крикнула Кити и выпорхнула в коридор.
— Не обижайся на нее, — сказал Джери Космасу, — уж такие они, женщины!
Он сказал это тоном человека, который может ошибиться в любом вопросе, но что касается женщин…
Было слышно, как Кити прыгает по ступенькам. Потом донесся ее голос:
— Джери!
— Да!
Он пожал руку Космасу и дружески улыбнулся.
— Оревуар! Разреши дать тебе один полезный совет: никогда не говори женщине «нет». Это очень плохо. И не потому, что ты ее оскорбляешь, а потому, что мешаешь ей играть роль строптивого создания. Это их дело говорить «нет». Мы, мужчины, всегда должны говорить «да».
Он еще раз пожал ему руку, засмеялся и вышел, хлопнув дверью. Его смех доносился уже с лестницы. Спускаясь по ступенькам, Джери кричал:
— Кити! Ки…
По-видимому, вся тирада понадобилась ему только для того, чтобы подчеркнуть: «мы, мужчины…»
А Кити в то утро была неслыханно хороша: ярко-красный костюмчик, волосы заплетены в толстые косы.
* * *
Он с нетерпением ждал пятницы. Незадолго до обеда в магазин зашел Джери. Он вызвал Космаса на улицу.
— На этот раз тебе не отвертеться, хитрец. Приглашаю я и никаких возражений не потерплю!
Было слышно, как в магазине Исидор тихо переговаривается с Манолакисом. Когда Крсмас вернулся на свое место, оба замолчали. Молчание длилось недолго. Исидор не выдержал.
— Выходит, Манолакис, — взорвался он, — на этот раз ваша милость приглашения не получила!
С Космасом Исидор держался осторожно. Однажды он пришел в магазин пьяный и стал срывать злость на Манолакисе. Когда остроты были израсходованы, он схватил линейку и кинулся на старика. Манолакис заплакал, а Анастасис взвыл от удовольствия и с хохотом стал кататься по мешкам. Зрелище было отвратительное. Космасу стали невыносимо противны эти люди. «Как тебе не стыдно! — сказал он Исидору. — Неужели в тебе нет ничего человеческого?» Исидор вскипел: до этой минуты никто в магазине не осмеливался ему перечить. «Я тебя увольняю! — крикнул он и замахнулся на Космаса линейкой. — И если ты еще раз пикнешь, я так тебя изобью, что не встанешь!» Космас поднялся, вырвал у Исидора линейку и, взяв его за плечи, усадил на стул. Исидор струсил. «Извини, брат… Я зарапортовался!»
С тех пор Исидор стал осторожнее. Но сейчас его уязвило, что Джери пришел пригласить Космаса, и он не смог сдержаться.
— Вот, значит, как! — ворчал он. — А нас этот сводник не пригласил…
— Исидор, — спокойно ответил Космас, — знаешь…
Но он не успел закончить фразы. В магазин вошел грузчик Андреас, здоровенный детина из Петралон. Его стоянка находилась напротив, и он перевозил все их товары. Андреас вытащил из-за пазухи бумажку и положил ее на стол перед Исидором.
— Хозяин! — сказал он шепотом. — Посмотри! Вся площадь в этих листках.
— Что это такое, Андреас?
— Прокламации.
— Ба! Постой-ка у двери!
Андреас сел у дверей сторожить.
— Потихоньку, Исидор, потихоньку, сынок! — пробормотал Манолакис и навострил уши.
Исидор начал читать:
— «Из глубины нашей трехтысячелетней истории на тебя смотрят предки — герои и мученики, борцы Марафона и Саламина, борцы двадцать первого года, герои Албанских гор. Не посрами своей истории, не предай самого себя. Встань в ряды борцов за свободу! Вперед! Все греки, все люди этой земли, объединяйтесь в Национально-освободительный фронт!»
— Где ты нашел это, Андреас? — спросил Исидор.
— Здесь, говорят тебе. Вся площадь засыпана!
— Читай дальше, сынок! — попросил Манолакис.
— Не нарваться бы на беду…
— Какая еще беда? — крикнул от двери Андреас. — Я смотрю в оба.
— Дай сюда! — Космас протянул руку.
— Погоди ты! — Исидор продолжал: — «Будьте дисциплинированны, действуйте активно и целеустремленно, собирайте средства для национально-освободительной газеты. Будьте готовы к жестокой борьбе и к любым жертвам».
В магазин вихрем ворвался Анастасис.
— Черт вас побери! Загубили вы меня! Кругом обыски! Давай сюда! Давай сюда!..
Анастасис выхватил прокламацию, сунул за пазуху, потом вынул и запрятал в мешок. Он не находил себе места: выглянул на улицу, вернулся в магазин, снова вытащил листок и разорвал его на мелкие кусочки. Манолакис делал вид, что укладывает мешки. Исидор выскользнул за дверь и исчез.
Анастасис заметил в дверях Андреаса.
— Кто это принес, а? Это ты принес, чертов сын?
Андреас взглянул на него с угрозой.
— Послушай, Анастасис, придержи-ка лучше язык!
— Не видать тебе больше у нас работы, выродок, большевик проклятый!
— Не кричи!
Андреас подошел к Анастасису и припер его к стене.
— Не кричи, а то получишь! — И он поднял ручищу. — Пошел ты со своей работой…
— Ну хорошо, Андреас…
— Еще бы не хорошо!
Стычку прервали выстрелы, раздавшиеся где-то неподалеку. Поднялся шум, крики, женский плач. Улица перед магазином наполнилась народом. Одни бежали к площади, другие оттуда. Космас бросился к выходу. В дверях он столкнулся с Исидором.
— Назад! — крикнул Исидор, желтый, как воск. — Там кого-то убили.
Космас выбежал на улицу. Мужчины и женщины жались к тротуару, по площади расхаживал патруль — человек десять в штатском, вооруженных пистолетами. На углу улицы Мьяулиса повалили на землю какую-то женщину и зверски избивали ее. Она кричала, называя их убийцами, трусами, предателями. Вдруг из переулка Эсхила донесся душераздирающий крик, и люди расступились, пропуская рыдающую девушку. «Это его сестра! — кричали с тротуара. — Это его сестра! Дайте ей пройти!» Космас понял, что девушка — сестра убитого. Он знал ее — она продавала орехи на площади.
Полицейские с пистолетами преградили ей дорогу, но она, не обращая на них внимания, рвалась вперед. Раздались крики:
— Убийцы! Пустите ее попрощаться с братишкой!
— Руки прочь!
Девушка с плачем побежала через площадь, к улице Мьяулиса.
Кто-то взял Космаса за руку.
— Что здесь происходит?
Это был торговец маслом с улицы Эврипида. Ему ответила женщина:
— Мальчика убили.
— Мальчика? За что?
— Он раздавал какие-то бумаги.
— Ничего он не раздавал. Не могут справиться с мужчинами, вот и убивают детей и женщин.
— Боже мой!.. Греки убивают греков!
— Это не греки! Это продажные собаки!
Космас обернулся, но так и не увидел лица женщины, сказавшей последнюю фразу. В толпе быстро промелькнул ее платок.
По улице Святого Димитрия, непрерывно гудя, промчался грузовик. Он был битком набит жандармами спецслужбы. Люди прижимались к стенам, чтобы открыть проход в узкой улице. Подъехав к площади, машина остановилась, жандармы, соскочив на мостовую, принялись поспешно подбирать листовки, усыпавшие землю.
* * *
О прокламациях говорили и на вечере в салоне Кацотакиса.
Когда Космас вошел, зал был уже полон. Большинство гостей были ему незнакомы. Кроме семьи судьи он знал только Беваса, двух торговцев маслом, магазин которых находился напротив лавочки Исидора, еще одного торговца сыром, который, как говорили, имел в Эпире большое поместье и несколько тысяч овец, и господина Карацописа — во время диктатуры он был мэром у себя на родине, а сейчас снимал неподалеку подвал и торговал изюмом. Ходили слухи, что Кацотакис прочит его себе в зятья.
Кити не было видно.
Старик Кацотакис утопал в большом кресле. Он торопливо улыбнулся Космасу и повернулся к лысому толстяку, сидевшему рядом.
— Да, да! — говорил он лысому господину. — Эти люди несут мученический крест. История их оценит.
Все были поглощены разговором. Но ораторствовал по преимуществу Кацотакис. Остальные поддакивали. «Да, да, — говорили они, — это очень патриотично со стороны правительства — взять в такой момент управление страной в свои руки. Что было бы без них? Неразбериха, хаос, разруха! Немцы разыскали бы каких-нибудь бродяг и поставили бы их у власти. Или объявили бы страну протекторатом. А сейчас в правительстве люди, с которыми можно найти общий язык, которые понимают тебя и которых ты тоже понимаешь, люди авторитетные, умеющие настоять на своем и не уступающие даже немцам». Все были согласны с этим. Но старик Кацотакис хотел, чтобы ему слегка возражали, и тогда бы он мог с блеском развить свою мысль.
— Вот ты, дорогой мой господин Лефтерис, не хочешь поступиться личными интересами ради общества. Я тебя вполне понимаю. Тебя возмущает, что в правительство вошел Мутусис…
— Но ведь это шарлатан, господа! — сказал лысый, и его щеки вспыхнули.
— Согласен! — ответил Кацотакис, подаваясь вперед всем телом. — Совершенно согласен. И могу сообщить вам, господа, что…
— Позвольте мне на этот счет заметить, — прервал его Карацопис. — У меня есть что сказать по данному вопросу. Когда я был мэром, я имел счастье много раз посещать покойного президента и вести с ним беседы. Ну, и его мнение о генерале Мутусисе…
— Знаю, знаю! — вмешался господин с усиками, сидевший напротив Кацотакиса: — У президента было отнюдь не лестное мнение о Мутусисе и о многих других.
— Спору нет, — снова взял слово старик. — Но интересы общества превыше всего. Я могу сообщить вам следующее. О формировании правительства было объявлено тридцатого апреля. Двадцать девятого вечером я позвонил генералу. Я протестовал против назначения Ливератоса на пост министра юстиции. Для этого было много оснований…
— Знаю, знаю! — снова воскликнул усатый.
— Да. Ну ладно. Так вот, Георгос рассмеялся и сказал мне буквально следующее: «А кого я еще поставлю? Я одобряю твою осторожность, Андреас, — Кацотакис попытался передать медленный ритм речи генерала, — я тоже не забыл старое. Но время не терпит. Не будем путать личное с общественным. Так нужно во имя родины, Андреас!»
— Но в таком случае… — вступил в разговор один из двух торговцев маслом и подпрыгнул на стуле.
Кацотакис улыбнулся и поощрительно кивнул ему головой.
— Но в таком случае, господин Андреас, как вы объясните враждебную позицию Лондона?
Кацотакис, лысый господин и господин с усами обменялись улыбками. Улыбнулся и Карацопис, но этого никто не заметил.
— Гм! — произнес Кацотакис и глубокомысленно опустил веки.
Некоторое время он молчал. Гости не сводили с него глаз.
— Я скажу вам только одно! — Кацотакис резко выпрямился и забросил одну ногу на другую. — Политика есть политика. — Он по очереди оглядел обоих торговцев маслом, помещика и мэра. — Это во-первых. А во-вторых, не торопитесь. Настанет час, когда лондонцы признают их. Не забывайте, господа: мы еще не знаем, чем кончится война. Оба лагеря пока сильны! Если одержат верх страны оси, родина признает спасителями нации всех генералов, вошедших в правительство, в том числе и нашего Мутусиса. — Кацотакис обернулся к лысому, всем своим видом говоря: «Что поделаешь! Личное и общественное разные вещи». — Если же, напротив, победят союзники, то генералы опять же будут объявлены спасителями, потому что когда его величество король ступит на свою землю, он найдет ее свободной. Отечество окончательно избавится от этой язвы — бандитов, которые только и ждут случая, чтобы всех нас уничтожить.
Распахнулась дверь. Гости встретили вошедшего дружным и радостным: «О-о-о!..» Старик Кацотакис поднялся со своего места и пошел к двери, чтобы пожать ему руку.
Тот улыбнулся собравшимся, затем сделал несколько шагов и остановился посреди зала. Еще раз — уже с серьезным видом — оглядев публику, он поднял над головой левый кулак и крикнул:
— Товарищи по борьбе!
Раздался смех.
— Вот шутник! — восхитился Джери и захлопал в ладоши.
Потом нагнулся к Космасу и сказал ему на ухо:
— Это Зойопулос, племянник министра. Ну и тип!..
И снова зааплодировал, заливаясь веселым смехом.
Смеялся и сам Зойопулос. Он был в очках. Тонкие усики, пышные волосы с легкой проседью и белые ровные зубы.
— Продолжение следует! — сказал Зойопулос. — Сегодня, дамы и господа… Но где же, где?.. — И стал искать кого-то глазами.
— Сейчас, сейчас они придут! — отозвался старик. — Продолжайте, Ненес.
— Ну уж нет, дорогой господин Андреас. Без прекрасной половины моей аудитории… Где Кити? — Он повернулся к Джери: — Куда ты ее спрятал? Старик вышел в коридор и позвал:
— Георгия! Кити!.. Здесь Ненес!
Из глубины коридора послышался смех. Вбежала Кити. На ней было белое платье. Все встали.
— О муза! — воскликнул Зойопулос.
Кити улыбнулась, откинула головку и протянула ему руки.
Он упал на одно колено, взял ее руки и поцеловал их.
Вошла госпожа Георгия в черном. Начались поклоны, рукопожатия. Старик взял Георгию за руку и отвел ее к креслу. Лысый уступил ему место и сел на стул Джери. Джери подхватил Космаса, и они устроились на диване. Кити усадили рядом с Карацописом. Зойопулос продолжал стоять.
— Дамы и господа! — начал Зойопулос, отвешивая поклоны.
Раздался смех и аплодисменты. Зойопулос сделал решительный жест, и овации смолкли.
Он порывисто сунул правую руку в карман пиджака, вытащил розовый листок и развернул его. Левую руку он сжал в кулак и поднял над головой. Его лицо приняло свирепое выражение, глаза впились в госпожу Георгию, а голос зазвучал хрипло и грубо:
— «Народ! Из глубины нашей трехтысячелетней истории на тебя смотрят предки — герои, мученики… народной революции!»
Последние слова были заглушены хохотом.
— Ах, черт его побери! Он просто неподражаем! — проговорил сквозь смех Кацотакис, вытирая слезы.
— Что это у вас? — спросил Зойопулоса лысый. — И где только он добывает эдакое?
Господин Карацопис нагнулся к уху Кити:
— Сегодня Ненес в ударе!
— Это, дорогие мои, — продолжал Зойопулос, оставляя шутовской тон, — новая прокламация ЭАМ.
И он, торопливо бормоча, прочитал текст:
— «Наступил критический момент… время действия, борьбы и жертв… Грек-рабочий, ремесленник, служащий, интеллигент и так далее и тому подобное… объединяйтесь в ЭАМ!»
— В славный ЭАМ! — крикнул Кацотакис. — А внизу? Ты не обратил внимания, Ненес? Хи-хи-хи! — Им овладел новый приступ смеха. — А внизу-то подпись ЭАМ! Сами себя хвалят!
— Никто меня не хвалит, так я сам себя похвалю! — крикнул лысый.
— Вот-вот!.. Хи-хи-хи! — Кацотакис так и трясся от смеха.
Смеялись и гости.
— Однако… Однако! — Господин с усиками повернулся в своем кресле, выжидая, когда восстановится тишина. — Однако, друзья мои, мы смеемся, а они делают свое дело. Я считаю положение очень серьезным. Тут не до смеха!..
Все замолчали и посмотрели на Кацотакиса, который еще вытирал глаза и с трудом переводил дыхание. Он помахал рукой: «Подождите», — положил платок в карман, обвел всех глазами и остановил свой взгляд на усатом.
— Ты прав, дорогой Георгос. Несколько месяцев назад я звонил генералу. Я сказал ему, что ко мне приходили из ЭАМ и прощупывали меня. Я назвал ему имена. «Андреас, — Кацотакис снова воспроизвел голос генерала, — если бы все греки выполняли свой долг, как ты, зло было бы задушено в зародыше».
— Не знаю, как в чем другом, но по этой части генерал… — проговорил лысый, так и не закончив свою мысль.
— Да, но факт налицо. Число коммунистов удвоилось!
— Позвольте и мне вставить слово, — вмешался Карацопис. — Мне есть что сказать по данному вопросу. Когда я был мэром, в моем городе насчитывалось около четырехсот коммунистов. Всех без исключения мы отправили в ссылку. А знаете, сколько их сегодня?.. — Карацопис сделал многозначительную паузу. — Свыше четырех тысяч!
— Но это… это… — попытался что-то сказать Кацотакис.
— В десять раз! — развел руками лысый.
— Размножаются прямо как кролики! — сказал усатый и дернул ус.
— А в моей деревне, господин Андреас… — начал помещик.
Но никто не стал его слушать. Только Кацотакис улыбнулся ему и тут же повернулся к лысому:
— Поразительно! Коммунисты, видите ли, сумели отравить молодежь. Послушайте, господа, что случилось с нами позавчера. Возвращались мы с Георгией от господина Марантиса. Было уже поздно. Неподалеку отсюда, за углом, шайка босоногих малевала стены. Как видно, полиция обнаружила их. Началась стрельба. Мы забежали в какой-то переулок. Едва стихли выстрелы, подходит… кто бы вы думали? Девочка. Господи помилуй! Берет она Георгию за руку. «Не бойтесь, говорит, товарищи! Вы далеко живете? Я провожу вас». И у нее был пистолет, господа! Да-да, она довела нас с Георгией до самой двери. Вот такусенького росточка кровопийца, хи-хи!.. — Кацотакис снова полез в карман за платком.
— Это правда, господа! — подтвердила госпожа Георгия. — Неужели у них нет дома, нет семьи? Боже мой!
— Ничего, госпожа Георгия, — сказал Зойопулос, — если так пойдет дальше, то мы скоро увидим и мадемуазель Кити с револьвером.
— Сохрани господь!
— Ха-ха-ха! — засмеялся Карацопис. — Что ни говорите, мадемуазель Кити, а он сегодня в ударе.
— А почему бы и нет, мама? — сказала Кити. — Я вооружусь пистолетом и пойду защищать народную свободу!
— Да! — крикнул Зойопулос. — Мы будем защищать народную свободу от тяжелого сапога завоевателей и их лакеев! Мы будем бороться за народно-демократическую Грецию!
— Чудесно! — подхватил Джери. — Я тоже за республику!
Все засмеялись.
— Что касается тебя, молодой человек, — среди общего шума крикнул Зойопулос и погрозил пальцем, — я всегда подозревал, что ты переодетый комиссар.
Однако усатому было не до шуток.
— Вместо того чтобы смеяться, господа, — я направляю свой упрек главным образом в адрес молодежи — давно пора действовать!
Все замолчали и посмотрели на Кацотакиса, но госпожа Георгия не дала ему говорить.
— Ну, довольно! — сказала она и встала. — Прошу к столу, господа! — И первой вышла из зала.
Мужчины тоже встали. Карацопис рыцарски склонился перед Кити и пропустил ее вперед.
— Кити! — окликнул Джери, держа за руку Космаса. — Мы здесь!
Кити взглянула на Джери и молча вышла. Джери задержал Космаса в зале:
— Подожди немного. Пусть уйдут старики.
— Эй, озорник! — крикнул ему от дверей Зойопулос. — Что там за секреты? У меня столько новостей для тебя…
— Терпение, Ненес! Минутку! — Джери повернулся к Космасу: — Так вот, упрямец, она на тебя обижена. Иди и проси прощения.
Их позвали:
— Джери! Эй, заговорщики!
Джери потянул Космаса за собой в столовую.
— Ну, негодный мальчишка! Ты попросишь у нее прощения?
V
В зале Кити ни разу не удостоила его взглядом. И даже когда Джери позвал ее, она сделала вид, что не заметила Космаса. Так же она вела себя и в столовой. Ее посадили между Карацописом и Бевасом, до сих пор молчаливо отсиживавшимся в углу зала. Теперь, возле Кити, он заметно оживился. Оба соседа Кити из кожи лезли, чтобы угодить ей. Она по очереди дарила им улыбки, а время от времени роняла слово, и прежде чем оно успевало слететь с ее губ, поклонники благодарно кивали головами.
Кацотакис и госпожа Георгия сидели во главе стола. С правой стороны от судьи поместился лысый, а рядом с госпожой Георгией господин Георгос с усиками. Космас оказался между Джери и одним из двух торговцев маслом, и хотя заметно было, что тот вылил на себя флакон лаванды, запах масла все-таки одерживал верх. Напротив сидели Зойопулос и помещик из Филиат.
Госпожа Георгия угостила гостей прекрасным рыбным супом, вслед за которым подали рыбу под майонезом. Гости, не жалея слов, расхваливали кулинарное искусство госпожи Георгии. Зойопулос окунул свой палец в соус и демонстративно облизал его, после чего Бевас, комплименты которого получили высшую оценку, признал себя побежденным, а господин Карацопис еще раз наклонился к Кити и сказал, что Ненес сегодня в ударе.
Лысый так и сиял.
— Это мое любимое блюдо! — говорил он госпоже Георгии, вытирая подбородок. — В 1933 году мой зять Дионисакис снял несколько садков, и три раза в неделю мы ели свежайшую рыбу. Вообще-то я не специалист, разве что сумею отличить рыбу от угря, Но рыбные блюда очень люблю.
— А я, знаете ли, не большой любитель этих блюд. Но госпожа Георгия так изумительно готовит… — вставил помещик из Филиат.
— Тебе, господин Ставрос, больше по душе мясо да молоко, не так ли? — усмехнулся Бевас.
— Еще бы! В младенчестве вместо материнского молока я питался коровьими мозгами.
И он раскатисто рассмеялся.
— Если бы я, как и ты, владел половиной Эпира, господин Ставрос, на кой черт мне понадобилась бы рыба? — сказал Зойопулос. — Но, конечно, за одну только ложечку майонеза госпожи Георгии я отдал бы весь Эпир.
— Если бы он был твой, Ненес.
— Я так и сказал, господин Ставрос: если бы он был мой…
— Нет худа без добра, — громко проговорил Кацотакис и сделал маленькую паузу.
Все притихли в ожидании нового рассказа. Кацотакис дожевал хлеб, вытер пальцы салфеткой и положил ладонь на руку госпожи Георгии.
— Да, да, нет худа без добра. Война есть война, оккупация есть оккупация. Но поверьте мне, если бы не оккупация, я ни за что не примирился бы с двумя своими врагами.
Госпожа Георгия засмеялась.
— В самом деле, — сказала она, — оккупация заставила Андреаса примириться с майонезом и с необходимостью ходить пешком.
— В 1926 году я служил в Патрах, — начал Кацотакис. — Не помню, по какому случаю, итальянский консул дал роскошный обед в честь городских властей в Псила Алонья. Нам подали майонез. Тогда я впервые отведал его. Мне не повезло, повар не проходил кулинарной школы моей покойной тещи. — И он улыбнулся госпоже Георгии. — Но не мог же я отказаться! Рядом сидел консул, а ему майонез страшно понравился! Мучения мои были неописуемы, особенно после обеда, тогда я вернулся домой. Тогда-то я и дал клятву, что больше никогда не возьму в рот майонеза.
Подали жаркое, и снова посыпались похвалы искусству госпожи Георгии. Но она призналась, что жаркое удалось не столько благодаря ее умению, сколько благодаря отличному мясу, которое прислал господин Ставрос. Тогда слово взял помещик. Он подтвердил, что мясо действительно хорошее — от позднего ягненка, такое мясо всегда сочное и вкусное. Его отец сам отбирает ягнят для родственников и друзей. Он человек старого склада и живет по дедовским обычаям.
Кацотакис похвалил вино Карацописа — мавродафни из Ахайи, — очень густое и сладкое.
— Вы знаете толк в вине, Георгос! — ласково сказал он.
— Позвольте заметить, мой покойный отец начал свою деятельность торговцем вина. Сам в рот его не брал, качество определял на глаз. Его боялся весь Пелопоннес!
— Что вы говорите! — Госпожа Георгия слушала его с истинно материнским вниманием.
— Когда я был мэром, — продолжал господин Карацопис, — наш город почтил своим посещением покойный президент. Он остановился в нашем доме. С моим отцом они были знакомы еще со времен переворота: тогда отец спас его от ареста, спрятав в бочке. Вот как сейчас помню покойного отца! Только мы сели за стол, он поднимается и говорит: «Яннис, — он называл президента по имени, ведь они были близкими друзьями, — сегодня тебе исполняется шестьдесят семь лет три месяца и десять дней. Столько же исполнилось вину, которое мы пьем за твое здоровье, в честь нашей великой родины и ее великого сына…»
— Очень трогательно! — заметил лысый. Все присоединились к его мнению.
— Да, в самом деле! — сказал Карацопис. — Президент был очень тронут. — И грустно добавил: — Позже на похороны покойного отца он прислал венок через своего секретаря…
Воцарилось молчание.
— Ну что тут говорить! — нарушил тишину Кацотакис. — Мы лишились крупного политика.
— И в такую трудную минуту! — добавил усатый.
— Слава богу, что есть замена в лице Мутусиса! — простонал лысый.
— Хи-хи! Кто о чем, а Лефтерис о Мутусисе.
Лысый стал горячиться:
— Да он тряпка, Андреас! И как только мог генерал так просчитаться!..
Несмотря на протесты госпожи Георгии, разговор снова перешел на политику. Джери налегал на вино и заставлял пить Космаса. Зойопулос грозил ему пальцем.
— Смотри, чтобы не повторилось позавчерашнее! — украдкой шепнул он Джери. — У меня столько новостей для тебя накопилось! Почему ты не представил мне своего друга?
— Да что ты спешишь, как на пожар! Всему свое время.
— Возьмем его в наше общество?
— Обязательно.
Космас повернулся к Джери:
— О каком обществе выговорите?
Джери налил ему вина. Зойопулос снова заговорил, и Космас наклонился, стараясь расслышать его слова. Наклоняясь, он увидел глаза Кити, устремленные на него. В эту же минуту Кацотакис произнес имя Марантиса.
— Теодор ни за что не согласится! — говорил Кацотакис. — Ни в коем случае. Сегодня утром я говорил с ним по телефону. Он советовал мне воздержаться от каких-либо действий.
— Хитрая лисица! — усмехнулся усатый.
— Нет, Георгос, ты неправ! Теодор в данных обстоятельствах проводит мудрую политику. На него нажимают со всех сторон: немцы прочат его на президентское место, деятели центра склоняют на свою сторону. И даже ЭАМ неоднократно выдвигал ему свои предложения. Шутка ли — это политик, и притом крупного масштаба, его не стоит компрометировать! Но, по существу, он и сейчас заворачивает всеми делами правительства.
— Это несомненно! — поддержал его лысый. — Позавчера я был у Бакоса{[43]}. Он сказал мне: «Теодор — золотой фонд нации, и мы не имеем права его компрометировать».
— Позвольте заметить! — вмешался Карацопис.
Но на этот раз Кацотакис не позволил ему заметить и заговорил сам, высоко поднимая указательный палец:
— После войны вся наша надежда на него, помяните мое слово!
Желая прервать слишком серьезную беседу, госпожа Георгия снова пригласила гостей в зал. Туда должны были подать сладкое и напитки. Китисобиралась играть на фортепьяно.
Гости направились в зал. Джери, Космас и Зойопулос остались в столовой.
— Ну, так как? — в упор спросил Космаса Зойопулос. — Вступаешь в наше общество?
— Погоди, погоди! — попробовал остановить его Джери.
— В какое общество? — со смехом спросил Космас.
— Есть у нас такое общество, — объяснил Зойопулос. — Занимается торговлей…
— Торгует ядами! — вставил Джери и выпил еще один стакан.
— Вот именно!
— Очень загадочно.
— Ядами для крыс! — сказал Зойопулос.
Космас засмеялся.
— В такое время?
— В такое время в них особенная нужда. Крысы-то красные!
— Не понимаю! — сказал Космас. В нем шевельнулось подозрение.
— Эх, Ненес, эх, торопыга! — покачал головой Джери. — Ну что ты пугаешь честных людей! Я же говорил тебе, что Космас поэт. А душа художника — это критский лабиринт. Можно ли проникнуть в нее без нити Ариадны?
Он обнял Зойопулоса за шею и поцеловал его.
— Опять хватил лишку, плут? — сказал Зойопулос. — Опять?
В дверях появилась Кити.
Джери поднял на нее осоловевшие глаза.
— Я поклонник прекрасного! — крикнул он. — Обожаю прекрасное в любом его проявлении, как обожали его наши предки.
Пытаясь подняться, он потянул скатерть. На пол полетели стаканы, бутылки и тарелки.
— Опять? — спросила Кити.
— Иди сюда! — крикнул Джери. — Иди поцелуй своего брата!
— Нет, ты правда несносен! — возмутился Зойопулос.
— Поцелуй меня, Ненес. Если она не хочет, поцелуй меня хоть ты. — И он упал лицом на мокрую скатерть.
* * *
В коридоре послышались голоса. Кити, Зойопулос и Космас вышли из столовой. По лестнице, с трудом переводя дыхание, поднимался торговец маслом.
— Обыск! — сказал он. — Немцы устроили облаву!
— Что случилось? Что им надо?! — воскликнула госпожа Георгия.
— Опять из-за англичан! — ответил торговец маслом. — Говорят, в доме напротив, у Касиматиса, прятали офицера, а теперь его поймали и обходят по очереди все дома.
— Вы думаете, они придут и сюда? — Госпожа Георгия дрожала.
— Нет оснований беспокоиться! — утешал ее лысый. — Мы никого не скрываем, ничего дурного не сделали. Если они явятся, мы им все объясним. Не звери же они, в самом деле.
— Проклятые англичане! — сердился Кацотакис. — Нашли время бежать!
— Спасают свою шкуру! — нервничал усатый. — Я презираю этих трусов.
— Подвергать опасности весь квартал! — вторил им Бевас. — Двоих укрывателей немцы уже повесили.
— И правильно сделали! — Кацотакиса тоже охватила дрожь. — Зачем предоставили им убежище? Можно ли делать это в такое время?
Внизу послышались удары в дверь.
— Боже мой!
— Успокойтесь!
Лысый стал спускаться по лестнице. Вместе с ним: отправился Бевас, говоривший по-немецки.
— Какое счастье, что здесь оказался Лефтерис!
— Они ни с кем не считаются! — проворчал, усатый. — Ни с полицией, ни с кем.
— Ну, знаете ли, начальник полицейского управления — это вам не первый встречный!
Прошло несколько минут. Снизу доносилась немецкая речь, потом раздались шаги по лестнице. Вместе с лысым и Бевасом вошел немец.
— Хайль Гитлер!
— Хайль Гитлер!
Немец остановился на последней ступеньке и оглядел собравшихся. Усатый начал представлять ему гостей. Бевас переводил.
— Господин Кацотакис. Высший судебный советник, близкий друг премьер-министра генерала Цолакоглу.
— Генерал Куременос. — И он указал на усатого. — Личный друг премьер-министра…
— Переведи ему, что весной 1914 года я имел честь лицезреть в Керкире его величество кайзера Вильгельма! — сказал генерал тоном приказа.
Бевас перевел.
— Инглиш нихтс? — спросил немец.
— Нихтс! Нихтс! — ответили все сразу.
— Гут!
Взгляд немца упал на Кити.
— Моя дочь! — Кацотакис выступил вперед. — Переведи.
Немец еще раз сказал «гут». Кацотакис осмелел и подошел к нему.
— Инглиш, — сказал он, комично жестикулируя, — капут! Инглиш капут! Дойчланд юбер аллее!
— Гут, гут! — засмеялся немец. — Дас рус капут!
— И рус капут!
— Скажи ему, — снова вмешался генерал, — что, по моему мнению, русские не продержатся и двух месяцев. А что касается этих дураков англичан, то они уже давно обанкротились.
Немец остался очень доволен. Он подошел к двери, заглянул в зал и направился к лестнице.
— Хайль Гитлер!
— Дойчланд юбер аллее! — крикнул за его спиной Кацотакис.
Все с облегчением вздохнули.
— Немцы — великий народ, — сказал генерал. — А немецкие солдату — лучшие воины.
Запыхавшись от спешки, в зал вбежал лысый.
— Пора по домам, господа, — сказал он гостям, — Давайте потихоньку расходиться.
Настроение у всех было испорчено, и гости начали прощаться.
Космас спустился в свою комнату и не раздеваясь лег в постель.
VI
Атака началась на другой же день и проводилась весьма планомерно.
Джери и Кити предлагали поехать с ними в Гекали и не желали слушать никаких возражений.
— Останемся там на три дня — субботу, воскресенье, понедельник. Немного успокоим нервы и вернемся с новыми силами. Свет, чистый воздух, солнце, а главное — уедем от этой вонючей толпы!..
В некоторых мероприятиях Кити не участвовала.
— С раннего утра поедем в Филиро. Сейчас самое время. Машина у нас своя. Захватим купальники и оттуда махнем прямо в Мениди, а там — ягненок на вертеле, оркестр, голые женщины! Наши эфирные создания пусть остаются дома.
Но бывали проекты, в которых «эфирные создания» выдвигались на первый план.
— Будет Рена, самая пикантная из наших девочек, придет Ион с двумя сестрами. На младшую, Мики, обрати внимание, греховодник! Она тоже пишет стихи.
Джери кричал и отчаянно жестикулировал. Но иногда его голос спускался до шепота:
— Сегодня мы пойдем на улицу Стурнараса. Ты не был там? Какое упущение! Не делай глупостей и не ходи на улицу Сократа, туда стекается весь плебс! Зато на улице Стурнараса…
И он объяснял, что на улице Стурнараса гораздо чище, а иногда среди женщин попадаются девушки. Конечно, возиться с ними не так уж приятно, зато это льстит мужскому самолюбию. Мысли о мужском достоинстве не давали ему покоя. Всегда и перед всеми он стремился подчеркнуть, что он настоящий мужчина. Его речь и поведение подчинялись категорическому девизу: «Мы — мужчины…», что, естественно, вызывало противопоставление: «Вы — женщины…» Джери искал случая вставить свою заповедь в любой разговор: стихия женщины — защита, стихия мужчины — нападение; манера поведения женщины — отрицание, мужчины — утверждение; свойство женщины — слабость, свойство мужчины — сила. Конечно, встречаются и исключения — женоподобные мужчины и мужеподобные женщины. Джери, как настоящий мужчина, предпочитал женственных женщин. Необходимо сочетание двух крайностей — в этом заключался исходный пункт его эстетики, его философии и его политических взглядов. И Джери старался, чтобы во всем — в его словах, в поступках, в движениях, жестах, походке — чувствовался настоящий мужчина. Ради этого он все время кому-то подражал и непрестанно искал новые образцы для подражания.
Непревзойденным образцом для Джери был Зойопулос. Но отдельные черты Джери заимствовал и у других; кое-что, например, он взял у Космаса: ему пришлись по вкусу его уверенная манера речи и походка. И еще улыбка Космаса, казавшаяся ему красивой и мужественной. Такое сочетание его очень привлекало.
Джери часто звал Космаса на вечера в широко известные дома. Имена хозяев Космасу доводилось встречать в газетах, в журналах, на этикетках папиросных коробок и вывесках крупнейших фирм. Иногда приглашения исходили от Зойопулоса — на виллу, где будет Мики, которая пишет стихи, или в дом к одному известному лицу, куда придет другое известное лицо и сделает очень важное сообщение.
Космас отказывался от всех предложений. В конце концов его стали тяготить собственные отказы и та роль, которая, по теории Джери, ему была не к лицу: подобно женщине, увиливать от ответа и отыскивать все новые предлоги и оттяжки. Но что же было делать, если он сам еще не знал, что им ответить? А им не давал возможности объяснить, что они хотят от него.
* * *
Однажды вечером, вернувшись из магазина, Космас услышал за дверью голос Джери:
— Ну, давай же, торопись! Все уже собрались!
И он насильно затащил Космаса в свою комнату, полную незнакомых молодых людей и дыма. Никто не взглянул на вошедших, Все сидели на диванах и стульях и разговаривали. Джери усадил Космаса рядом с собой и сказал кому-то, что теперь можно начинать.
Встал юноша, казавшийся здесь самым взрослым. Он заявил, что считает целесообразным начать с сообщения административного совета, и принялся читать. Космас слушал и ничего не понимал. Как только ему начинало казаться, что он нащупывает ключ к разгадке, докладчик переходил на цифры и условные обозначения. Суть сообщения, насколько уяснил Космас, заключалась в том, что административный совет одобряет деятельность какого-то участка и надеется, что остальные участки возьмут с него пример. Оратор лично поздравил с успехом нескольких человек, но вместо имен назвал номера.
Потом откуда-то вынырнул Зойопулос и предоставил слово господину Спилиадису. Спилиадис оказался пухленьким, младенческого вида человечком, в очках, с розовыми щечками и тоненьким голоском. Тема его доклада, по-видимому, была всем известна, и поэтому ее не объявили. Джери прошептал Космасу, что речь пойдет об организационных недостатках. Вид у Спилиадиса был пресмешной, и некоторые слушатели с трудом скрывали ироническую усмешку. На Космаса Спилиадис тоже произвел комичное впечатление. Но говорил он о вещах очень серьезных.
— В области идеологии наше движение добилось положительных результатов. Мы привлекли в административный совет общества известных ученых и крупнейших политиков. Программа, разработанная ими, гармонично сочетает философский базис и требования текущего момента. При такой солидной основе мы имеем все основания добиться желаемого единства наших рядов перед лицом общего противника. Думаю, вы со мной согласитесь, что источник поразительных успехов коммунистов заключается в их программе, которая представляет собой не случайный набор политических лозунгов, а излагает их философию, их экономическую теорию и способы ее практического применения. Именно эта цельность и последовательность в вопросах идеологии обеспечивает превосходство коммунистов в сфере практической деятельности, является залогом их сплоченности и дисциплинированности. Сейчас мы наконец смогли противопоставить коммунистам свою идеологию, но на практике мы еще очень отстаем от них. Результаты нашей деятельности пока плачевны, силы распылены, это нужно признать.
Речь Спилиадиса внесла необходимую ясность. Было видно, что в этом нуждались многие слушатели. И сейчас они выражали свое удовлетворение аплодисментами. Стало шумно. С трудом можно было расслышать, как Зойопулос призывал собрание к порядку и просил желающих взять слово. Выступил господин Иордану, хорошо сложенный юноша в красивом свитере. Он согласился со всем, о чем столь красноречиво говорил господин Спилиадис, и выразил мнение, что самым логичным выводом из сказанного будет решение развернуть широкую пропаганду. В чем сила коммунистов, как правильно объяснил господин Спилиадис? В их железной программе. Следовательно…
Тут вскочил Джери и, не прося слова, заявил, что видит в этом трагическое недоразумение, которое может привести к роковой развязке.
Все замолчали и с интересом ждали дальнейшего.
— Да это же наивно, господа! — продолжал Джери. — Наивно думать, что сила коммунистов в их идеологии. Было бы трагической ошибкой признать этих авантюристов политическими, я подчеркиваю — политическими, противниками.
— А разве на самом деле не так? — спросила красивая девушка, полулежавшая на диване рядом со Спилиадисом.
«Наверно, это и есть Рена», — подумал Космас и стал искать взглядом Кити. Но Кити здесь не было.
— Боже мой, что за вопрос! — разочарованно протянул Джери.
— То, что коммунисты уголовные преступники, давно не новость, господа, — сказал юноша с внешностью и осанкой аристократа, однако одетый очень скромно. — Но разве наша эпоха не стала эпохой самых чудовищных метаморфоз? Разоряются древние аристократические роды. — Последняя фраза была произнесена особенно значительно. — В течение одного дня становятся аристократами вчерашние плебеи. Бродяги становятся политиками.
За его словами последовало молчание. Потом встал Зойопулос.
— Господин Каравасилиу, по-моему, совершенно прав, — сказал он, указывая на последнего оратора (и Космас вспомнил известную фамилию обанкротившихся коммерсантов). — А господин Кацотакис (Космас не сразу догадался, что речь идет о Джери), как всегда верен себе и своей тактике крайностей.
Поднялся Спилиадис.
— Мы не можем закрывать глаза на действительность. И я думаю, что в этом вопросе административный совет поступает абсолютно правильно. Авантюристы есть авантюристы, я этого не оспариваю, но кто сегодня наш политический, я подчеркиваю — политический, противник?
— Но, господин Спилиадис, если мы признаем их уголовниками, то и меры по борьбе с ними будут соответствующими.
— Вопрос не в том, кем мы их признаем, а в том, что представляет собой ЭАМ на самом деле.
Сначала выступавшие просили слова. Но потом спор разгорелся, и председатель потерял бразды правления. Собравшиеся разделились на группы, нить разговора была потеряна. Джери обернулся к Космасу:
— Если мы будем действовать так, как они предлагают, все погибло. Понимаешь, Космас?
В эту минуту Космас увидел еще одну хорошенькую девушку, шептавшую что-то на ухо своему соседу. Джери перехватил взгляд Космаса и сжал его руку.
— Ах ты мошенник! — сказал он с насмешкой. — Это сестра Мики, о которой я тебе говорил. Ее зовут Зан. Хочешь, познакомлю?
И он с готовностью вскочил. Но в эту минуту кто-то произнес слова, которых, по-видимому, ждали. Эти слова сразу же восстановили тишину, к которой тщетно призывал председатель. Слова эти были: «Боевые организации». Как птицы из гнезда, одно за другим стали вылетать уточняющие предложения: военные отряды, роты, батальоны, офицеры, оружие…
Зойопулос предоставил слово господину Аполлону Доксатосу, и дебаты тотчас же смолкли: было видно, что Аполлон пользуется здесь непререкаемым авторитетом. Космас чуть-чуть наклонился, чтобы получше разглядеть его, — они сидели в одном ряду. Аполлон оказался сверстником Космаса, это был юноша крепкого сложения, с интеллигентным и вместе с тем мужественным лицом.
— Наконец-то! — сказал Аполлон и улыбнулся. — Я сижу и жду этих слов, потому что ни дискуссия, ни доклад господина Спилиадиса меня не удовлетворили.
Космас бросил взгляд на круглое лицо Спилиадиса и увидел, что тот покраснел. И еще он увидел, что Зан смотрит на Спилиадиса с выражением иронии, сочувствия и женской жалости.
— Я не был удовлетворен, — говорил Аполлон, — потому что господин Спилиадис исходил из неверных предпосылок. Национальные силы разбросаны, а коммунисты едины — это бесспорный факт, но утверждение, будто наши идеологические позиции надежны, не соответствует истине. К сожалению, в этой области дело обстоит тоже из рук вон плохо.
— Как же так, господин Доксатос? А программа? — нервно спросил Спилиадис. Он то и дело менялся в лице.
— Я принимаю нашу программу, но не потому, что считаю ее хорошей, а потому, что не вижу лучшей! Не берусь оспаривать ее положений; главным стремлением моей жизни было стать хорошим врачом, а не плохим социологом. Но мне кажется, что в программе, разработанной нашим уважаемым административным советом, многое осталось неясным. Например: мы не отвергаем социализм, верим в демократию и желаем возвращения короля. Мы создаем какую-то абстрактную схему монархического социализма, в которую никто не поверит и которой не верим даже мы сами. Я читаю программу и спрашиваю себя: кто я? Социалист? Я не могу отрицательно ответить на этот вопрос. Буржуазный демократ? Да, и буржуазный демократ тоже. Монархист? Судя по программе, я еще и монархист.
— А правда, Аполлон, кто же мы, в конце концов? — с искренним интересом спросила Зан.
— И те, и другие, и третьи! — ответил Аполлон. Все, кроме Спилиадиса, засмеялись.
Когда смех стих, Аполлон продолжал:
— А вернее, мадемуазель Зан, мы не социалисты, не буржуазные демократы, не монархисты. Мы нечто другое — мы антикоммунисты.
— Вот это верно! — весело крикнул Джери.
— Вот это-то и плохо, господин Кацотакис. Да-да!
— То есть как?
— Вот так: если мы признаем себя антикоммунистами — мы признаем это прямо, а программа — косвенно, — то этим самым мы признаем свое поражение и шаткость наших позиций. Уже само это слово «антикоммунисты» автоматически лишает нас самостоятельности. Это значит, что мы не существуем как организация, партия, класс, а являемся лишь антиподом другой партии или организации. Мы не действуем, а противодействуем, вся наша деятельность сводится к отрицанию. Мы никогда не говорим «да», а только «нет». И уже одного этого, господин Кацотакис, достаточно, — в этом месте голос Аполлона стал особенно язвительным, — чтобы понять всю глубину нашего падения, если взглянуть на вещи в свете вашей теории о позиции двух полов.
Раздался гомерический хохот. Громче всех смеялся Джери.
— Я приведу еще один наглядный пример, — продолжал Аполлон, — показывающий, что звание «антикоммунистов» не так уж лестно для нас. Я не разделяю мнения господина Спилиадиса о том, что сила коммунистов в единстве их идеологии. Если бы дело было только в этом, коммунисты никогда не смогли бы привлечь на свою сторону крестьян и добиться того, чего они добились: а именно — влияния почти на две трети сельского населения. Я не говорю о городе, я ставлю в пример только деревню. Им не удалось бы покорить деревню, если бы они не отложили в сторону «Коммунистический манифест» Маркса и его теорию прибавочной стоимости и не стали бы прикрываться национальным знаменем. Свою гнусную деятельность коммунисты выдают за национально-освободительную борьбу, и нация идет за ними, а мы, ослепленные ненавистью к коммунистам, катимся по наклонной плоскости, и деятельность наша не вызывает сочувствия масс. У нас нет своего пути, мы не ищем самостоятельного выхода, мы просто делаем обратное тому, что делают коммунисты. Это ведет нас к катастрофе. Настало время остановиться. Иначе придет роковая минута, когда в нас не будут верить как в борцов за национальные интересы. Я ненавижу коммунистов, вы это знаете, но я с содроганием вижу, что мы зашли в тупик. Придет время, и все увидят, что коммунисты, эти ниспровергатели наций, люди, отвергающие само понятие «нация», последовательно проводили национальную борьбу, а мы, всегда поднимавшие его на щит, изо всех сил старались мешать этой борьбе.
— Но это нелепо, Аполлон, — робко возразил Иордану. — Как это может быть?
— Первые симптомы уже налицо. Мы, как попугаи, подражаем ЭАМ. Создаем подпольные организации по типу ЭАМ. У них мы взяли организационную схему: ЦК, конспирация, устав, программа — все как у них. Проводим мероприятия только для того, чтобы опередить их; заседаем, как они, пробуем работать, как они, и даже лозунги на стенах малюем, как они, только другой краской. Нам присущи все недостатки эпигонов. Впереди идут они, а не мы. Мы чувствуем, что они не только опережают нас, но и что они могут действовать независимо от нас, чего мы не можем сказать о себе. Сознавая все эти недостатки, мы стремимся к объединению национальных элементов, надеясь, что чаша весов в конце концов склонится на нашу сторону, на сторону здоровых сил нации. Я непоколебимо верю, что эта надежда имеет под собой реальную основу, но вместе с тем убежден, что тактика наша не только ошибочна, но и преступна.
Спилиадис запротестовал и стал требовать объяснений.
— Я уже все объяснил, — ответил Аполлон. — Но если хотите, я могу повторить. Основной наш изъян — несамостоятельность. Нашу деятельность нельзя назвать национальной, потому что она тоже всего-навсего антикоммунистическая. По существу, мы стремимся к объединению не национальных, а антикоммунистических сил. И тут мы не ставим никаких ограничений. Мы рады принять и буржуа, и крестьян, и полицейских, и даже немцев.
Кое-кто оглянулся на Спилиадиса, остальные не отрываясь слушали Аполлона.
— Но это неверно, — сказал Спилиадис. — Зачем вы так говорите, господин Доксатос?
— Я обращаюсь к господину Кацотакису. Я спрашиваю его: верно ли то, что я сказал?
Джери вскочил.
— Я дал клятву бороться с коммунизмом. У меня нет другого врага, кроме этого чудовища. Я абсолютно уверен, что немцы будут побеждены и сюда придут союзники. Но поражение немцев не станет нашей окончательной победой. Наша победа — в уничтожении коммунистов, конкретнее — греческих коммунистов. Поражение греческих коммунистов — наше дело, и мы должны с ним покончить. Коммунисты наступают, они проникли в глубь масс. Теперь мы заинтересованы в любом человеке, ненавидящем коммунистов. Нужно начать крестовый поход. В нем должны принять участие все, в том числе и немцы. И если они внесут хоть незначительный вклад в дело уничтожения греческих коммунистов, им простятся все грехи, совершенные в Европе.
Снова поднялся шум. Некоторые кричали, что Джери прав и в этих вопросах нет места колебаниям, нечего прятать голову под крыло. Кто мы такие? Буржуа! Кто наш враг? В первую очередь коммунисты. Если немцы потерпят поражение, а власть возьмут коммунисты, кто от этого выиграет?
Тем не менее Аполлон хотел защищать свою точку зрения.
Во-первых, он не может согласиться с господином Спилиадисом, который сводит всю проблему к усилению идеологической работы. Такими средствами коммунистов не одолеть. Идеологическим оружием с ними не справиться. Один простой пример: господин Спилиадис очень правильно сказал, что политическая программа коммунистов — это не случайный набор политических лозунгов, в ней квинтэссенция их философии и экономической теории. Это верно. А что мы можем противопоставить им? Какую философию и экономическую теорию мы можем выдвинуть в противовес?
— Повторяю, — продолжал Аполлон, — я не социолог и, возможно, ошибаюсь. Однако когда я попытался как-то разобраться в философии, которая, очевидно, должна более или менее отражать и мои взгляды, я обнаружил лишь хаос мнений, теорий и известных имен. То же самое и с экономической теорией: на каждого философа есть десять экономистов, которые явно не в ладу между собой. Что же мы можем противопоставить?
Что касается позиции господина Кацотакиса, то я уже объяснил, почему считаю ее неприемлемой. Такие методы борьбы не только не повредят коммунистам, а, напротив, пойдут им на пользу. Логическим исходом подобных методов явится банкротство национальных элементов в глазах масс, потому что коммунисты, конечно, не преминут раструбить о нашем сотрудничестве с немцами и тем самым сделать достоянием гласности наше так называемое предательство. Я говорю «так называемое», — пояснил Аполлон, — потому, что это сотрудничество никак нельзя назвать предательством. Оно не является нашей целью. Это лишь временный компромисс, на который мы идем в интересах нации. Однако я считаю его недопустимым как с точки зрения тактики, так и учитывая конечную цель нашей борьбы.
— Ваши аргументы очень убедительны, господин Доксатос, но что же вы нам предлагаете? Может быть, нам тоже нужно вступить в ЭАМ?
— Боже сохрани! Что вы говорите, господин Каравасилиу!
Все засмеялись.
— Я предпочитаю другой путь. Мы должны поднять знамя национальной борьбы, вступить на путь действия, а не противодействия, утверждения, а не отрицания. И никому не подражать. Наша борьба должна быть самостоятельной и прежде всего национальной. Наши враги — оккупанты, наши союзники — все греки, кроме коммунистов. С ними мы будем бороться как с антинациональными элементами не потому, что мы антикоммунисты, а потому, что они враги нации…
— Но они провозглашают те же национальные принципы!
— Нужно доказать, что это только притворство.
— Как доказать?
— Доказать, что мы лучше боремся за интересы нации, чем они.
— Каким образом?
И тут Аполлон повторил заветные слова — «боевые организации».
— Боевые организации развернут активную борьбу, в них войдут верные люди, подчиняющиеся железной дисциплине, руководить ими будут талантливые вожди. Мы больше не будем подражать нашим врагам, мы будем брать пример с наших предков и с лучших борцов.
Все были согласны с Аполлоном. Решили привлечь способных офицеров, внесли практические предложения о сборе оружия и боеприпасов, вспомнили о генеральном штабе Среднего Востока, передатчиках, парашютах, тайных аэродромах в сельской местности.
Наконец, когда все проблемы были решены, руководство призвало собравшихся к строжайшей дисциплине и сообщило, что с завтрашнего дня организация переходит к тактике боевых выступлений.
Отныне деятельность организации будет протекать под лозунгом «самостоятельность».
Первое выступление наметили на ближайшие дни в университете. Там коммунисты действуют очень активно, они выбросили национальные элементы из всех советов и комитетов. Студенческая организация очень слаба, ее необходимо укрепить.
Боевым выступлением будет руководить Аполлон.
Собрание закончилось, все разошлись. Боевая группа осталась разрабатывать план действий.
VII
В провинции антикоммунистическая кампания велась уже давно.
Когда Космас старался уяснить себе, почему она никогда не вызывала его сочувствия, он вспоминал о своем однокласснике, который первым начал его обрабатывать. Возможно, немалую роль сыграла именно личная антипатия к этому парню… Но потом на смену ему пришли другие, и они опять-таки не сказали того, чего Космас ждал. Все они ополчились против врага, который не причинил ему никакого зла, и мирились с явным врагом, предавшим родину опустошению.
Однажды он нашел в своей парте подброшенную кем-то коммунистическую книгу, начал читать — и забыл все на свете. Первые же слова — «равенство», «социальная справедливость» — безраздельно захватили его. Но, не успев перевернуть страницы, он раз десять натолкнулся на слова «революция», «диктатура», «гражданская война». С благоговейным трепетом Космас устремлялся навстречу благородной и миролюбивой богине Равенства; но с той же силой он отшатывался, когда видел на потемневшем горизонте насилие и кровь. А любая война была для Космаса кровопролитием и всякая диктатура — насилием. Когда-то его покойный отец просил Марантиса позаботиться о сыне своего хорошего друга, коммунисте, которого угнали в ссылку. Марантис ответил: «Они безумцы и маньяки, хотят насильственно привести нас в рай, предварительно подвергнув пыткам в аду». Эта фраза глубоко запала в память Космаса. Вот именно: в светлый рай после того, как мы сгорим в огне черного ада. Цель велика и священна, но средства ужасны.
* * *
Так он поставил тогда точку на этой странице своей жизни.
Но разве это была точка?
Космас учился в первом классе гимназии, когда к нему пришла первая любовь. Он сидел на последней парте и мог не отрываясь смотреть на нее. Но ей было трудно оглядываться, и, подыскивая для этого какой-нибудь предлог, она раздавала направо и налево свои тетради и карандаши. А на переменах немного задерживалась, чтобы пропустить его вперед. Она была красивее всех. И имя у нее тоже было самое красивое — Янна.
Ученический мирок строил козни. Во главе девочек стояла Феодора — высокая тощая девица с длинными косами; ей уже давно пора было замуж, но она все еще не могла вызубрить теорему Пифагора. Госпожа Гликерия посадила ее отдельно на первую парту. Мальчиков возглавлял Карадивас. Любимой забавой для него было набить карманы конопляными семечками и ловко подбрасывать их в коридоре под ноги госпоже Гликерии, чтобы она поскользнулась и села на пол. Оба главаря поделили сферы влияния, и ничто не могло произойти без их санкции. Переписка вождей не прерывалась. Почтовая связь лихорадочно обслуживала последнюю парту, где находилась ставка Карадиваса, и первую, где под строгим надзором госпожи Гликерии сидела в одиночном заключении Феодора. Посягнуть на тайны этой переписки не смел никто. Если же такие случаи бывали и виновником оказывался мальчик, то Карадивас моментально карал его. Виновник получал дюжину тумаков, а его имущество конфисковалось. Если виновник оказывался в лагере Феодоры, она принимала свои меры. Эти меры были более гибкими: Феодора не опускалась до избиения и грабежа, зато виновница должна была приводить в порядок ее тетради, готовить за нее задания по рукоделию и решать задачи. Если же дело доходило до предательства, то к какой бы сфере ни принадлежал фискал, его ожидали страшные унижения. Оба вождя были неумолимы. Правда, Феодора в этих случаях умывала руки: своих подданных она передавала на суд беспощадному Карадивасу. Вот в этой-то переписке вождей были однажды зафиксированы имена Янны и Космаса. Неусыпный глаз госпожи Гликерии заметил, как Феодора передала записку девочкам второй парты. Учительница поднялась с кафедры, держа в руках железную линейку.
— Сюда! — рявкнула она, потрясая линейкой. — Сюда, Скуларику!
Несчастная Скуларику, тщедушное, болезненное создание, перевела взгляд с учительницы на Феодору, глаза которой метали могший, и без колебаний приняла решение.
— Что, госпожа? — спросила она, подняв на учительницу невинные глазки.
— Дай сюда, Скуларику!
— Но что, госпожа?
— То, что тебе передала Адамопулу.
— Адамопулу ничего не передавала мне, госпожа. Линейка описала грозную траекторию и с таким грохотом опустилась на парту, что класс содрогнулся. Но глаза Феодоры по-прежнему метали молнии, и Скуларику не сдавалась.
— Ну? — спросила Гликерия. Скуларику не ответила.
Тогда госпожа Гликерия приступила к следующему этапу следствия. Она перешла к обыску. Сначала она разомкнула кулачки девочки, потом вывернула наизнанку ее карманы и высыпала на парту содержимое ее портфеля. Записка была найдена. «Завтра, — писала в ней Феодора, — в четыре часа пополудни в храме святого Афанасия состоится венчание Янны и Космаса. Будут присутствовать все родственники и друзья».
Директор гимназии, добрый старичок, в том году уходивший на пенсию, не дал хода делу. Он вызвал Феодору, по своему обыкновению отвесил ей пару шлепков по мягкому месту, и на этом все окончилось. Окончилось для всех, кроме двоих…
Космас и Янна были соседями. Между их домами лежал пустовавший строительный участок, и Космас видел из своего окна, как Янна сидит у стола и делает уроки. Так прошло три года. До ее отъезда.
Матери у Янны не было. Она приехала в провинцию вместе со своим отцом Павлом, который вскоре поступил на работу в сапожную мастерскую. Он слыл хорошим мастером. Приветливый, спокойный человек, высокий, стройный. Космас видел его почти каждый день, когда он проходил мимо их дома. Утром Павел шел на работу, вечером возвращался, нагруженный покупками. Он жил вдвоем с Янной. Вскоре после их приезда Космас услышал, как женщины называют мастера Павла масоном. В те дни умер единственный сын владельца мастерской, в которой работал Павел, и женщины говорили, что мастер участвовал в похоронной процессии, но в церковь не вошел, а ждал снаружи и потом снова присоединился к шествию, направлявшемуся на кладбище. Слухи долетели до школы, и обнаружилось, что Янна по воскресеньям не ходит в церковь. Многие перестали здороваться с мастером, он же здоровался со всеми.
Напротив дома Космаса жила госпожа Аврокоми, очень набожная женщина. Ее старший сын Алексис пошел в дьяконы. Госпожа Аврокоми часто приходила к матери Космаса шить на ее машинке. Едва завидев проходящего мастера Павла, она начинала креститься: «Господи, помилуй!» Однако вскоре вслед за первой произошла вторая история, которая решительно изменила настроение граждан.
В тот год два больших несчастья обрушились на маленький городишко — пожары и банкротства. Горели склады, дома и магазины разорившихся купцов. Они застраховывали все имущество и в критический момент предавали его огню. Иначе банки конфисковали бы и дома, и магазины, а кредиторы засадили бы их в тюрьму. А так они получали страховку, кое-как улаживали свои дела и сохраняли престиж. Получалось, что пожар спасал купцов от банкротства, а банкротства спасали город от пожаров.
Загорелась даже фабрика льда. Собственно, с нее все и началось. Глава компании «Василиос Бурумис и K°», старая лиса, отхватил у страхового общества двести тысяч, заплатил часть своих долгов, взял ссуду в торговом банке, который с готовностью помог пострадавшему, и через год на старом фундаменте построил новую фабрику. Его примеру последовали другие, и не проходило недели, чтобы где-нибудь не вспыхивал пожар.
Пожарной команды в городе не было. Один торговец табаком из Кефалонии, представитель фирмы Папастратоса, не боялся банкротства: его дела шли неплохо, но, на его беду, соседние магазины, слева и справа, вот-вот должны были вспыхнуть. Он был предусмотрителен и написал об этом Папастратосу, а тот выслал ему две пожарные машины; эти машины стоически выжидали рокового часа во дворе за магазином. Но беда нагрянула — вместе с табачной лавкой сгорели и пожарные машины Папастратоса. В подвале, что находился слева от лавки, хранилась смола, и прежде чем пожарники успели ахнуть, все три магазина обратились в пепел.
Этот пожар был страшнее всех остальных. Он вспыхнул в самый спокойный час — на рассвете. И не успели забить в колокол, как огонь уже сделал свое дело. Над городом нависли черные тучи. Все усилия были бесполезны.
Люди, прибежавшие на помощь, неподвижно стояли на площади и смотрели на пламя. Вдруг раздался крик: «Люди добрые, там мои дети!» Кричала женщина, которая в одной рубашке выскочила из соседнего дома и бросилась к горящим магазинам.
Эта женщина, вдова, пришла вечером из деревни, она была землячкой хозяина магазина, в подвале которого хранилась смола, и он разрешил ей переночевать в магазине. Его приказчик тоже два месяца назад схоронил жену, и вдова, уложив детей спать, пошла к нему.
Первым ринулся в огонь один из пожарников. Он надвинул на голову каску, схватил в руки бидон с водой и вошел в дверь, из которой вырывались дым и языки пламени. Через несколько минут пожарник вернулся. Его одежда тлела.
Женщина снова рванулась к двери. Ее удержали. Все столпились вокруг вдовы, и мало кто заметил, что какой-то мужчина обернулся мокрым одеялом и вошел в дверь горящего магазина. «Кто это?» — крикнули из толпы.
Люди ждали. И вот в дверях показался дымящийся человек. Он сделал два шага и упал на землю. Под одеялом нашли двух мальчиков. Одного из них огонь не тронул, но он был мертв: как видно, задохнулся от дыма. Другой был еще жив, он бился в судорогах и кричал. Все занялись детьми и забыли о спасителе. Наконец кто-то подошел к нему и сдернул одеяло. Лицо обгорело, одежда дымилась. Его раздели и отвезли в больницу. Там выяснилось, что это «масон».
Мнение маленького городка о мастере Павле менялось не раз. Сначала оценили его мастерство. Его называли хорошим и честным тружеником. Потом наступил период «масонства» — период всеобщего молчаливого осуждения. После случая на пожаре наступила очередная перемена: встречные на улице пожимали Павлу руку, а госпожа Аврокоми молилась, чтобы недоразумение было окончательно забыто.
Но затем последовал новый спад. Вслед за пожарами пришла другая беда — забастовки. Начались они с гимназии. Никогда еще городок не знал таких волнений. Гимназисты не явились на занятия, возле здания выставили патрули; произошли столкновения с преподавателями и жандармерией. Потом забастовали рабочие фабрики льда, железнодорожные грузчики и служащие электростанции. В воскресный день крестьяне окрестных деревень устроили митинг перед зданиями мэрии и крестьянского банка. Они требовали повышения цен на изюм, аннулирования некоторых старых долгов, предоставления ссуд.
Город кипел. Не дремали и блюстители порядка. Они арестовали тридцать гимназистов, нескольких рабочих, членов профсоюза и кооперативных деятелей. Собирались арестовать и мастера Павла. Но дома была только Янна.
Около месяца Янна жила одна. Потом за ней приехала женщина в черном. Она сказала, что приходится Янне теткой, сестрой ее матери.
Мастер Павел исчез, но в городке о нем не забыли. Помнил его и Космас. Однажды ему довелось услышать выступление мастера в аптеке Птолемея. Мастер говорил медленно и тихо, он не играл голосом и не владел секретами жестикуляции, как его противник адвокат Кайопулос. Адвокат служил в юридической конторе члена парламента Трихилиса, и говорили, что он вскоре выставит свою кандидатуру на парламентских выборах. Кайопулос смеялся, отпускал каламбуры, негодовал, и его лицо краснело от напряжения. Мастер же был невозмутим и стоял на своем. Из его слов выходило, что все — правительство и парламент, компании и банки, а также государственные учреждения — грабят и обирают крестьян.
Кайопулос обвинил мастера в том, что он и его партия не верят в бога.
— Наоборот, — сказал мастер, — мы хотим устроить рай на земле. А если он есть и на небе, тем лучше.
— Да, но вы хотите создать земной рай огнем и мечом.
— Никто больше нас не ненавидит насилие и кровопролитие! — сказал мастер. — Когда мы создадим общество, о котором мечтаем, наука, возможно, найдет средство, чтобы человек рождался без мучений и крови. Но пока это средство нам не известно. Так же и новое общество не может родиться без боли и крови.
— Зло, которое вы приносите, перевешивает блага, которые вы обещаете, — проговорил Кайопулос, поднимая палец. — Пролито столько материнских слез, что в них потонет ваша преступная философия.
— Было бы лучше, если бы вы дословно процитировали Паламаса{[44]}.
— А, значит, мы почитываем и Паламаса?
— Читаем.
— Гм… — только и нашел что сказать Кайопулос.
— Вот вы заявили, что мы собираемся учредить рай войной и насилием. Мы не выдумываем законы развития.
Они существуют и действуют, не спрашивая нашего согласия. Об этом знал Паламас, когда писал, что государство идет вперед путем насилия и войн. Но кто в этом виноват? Виноват ли новый, рождающийся мир или старый, умирающий? Судите сами. Читайте Паламаса, пусть только одного Паламаса, но до конца. И не забывайте его стихов о том, как возникло поколение счастливых.
Космас не читал о поколении счастливых и не знал тех строк, в которых поэт с высоты своего гения предрекал человечеству тернистый путь, прежде чем оно придет к счастью.
После этой дискуссии Космас снова засел за старые книги. Они открыли ему новые миры, обрушили на него, шквал новых мыслей и идей.
Нет! Он не закончил еще эту страницу своей жизни. Ставить точку было рано.
VIII
Облавы на англичан продолжались. Бежало двенадцать человек. Троих немцы схватили во время обысков. Тех, кто предоставил им убежище, повесили. Дней через десять одного из беглецов нашли на улице мертвым.
Однажды Космас возвращался из театра. Час был поздний, улица Эврипида уже опустела. Со стороны площади Кумундуроса появился патруль.
Когда Космас подошел к подъезду, за его спиной послышались быстрые шаги и тяжелое дыхание. Было темно. Обернувшись, он с трудом различил фигуру остановившегося рядом человека.
Неизвестный сказал по-гречески: «Спаси меня!» — и акцент сразу же выдал в нем англичанина.
Топот патрульных приближался.
Космас открыл дверь, и незнакомец прошел первым.
— Молчи! — сказал Космас и взял незнакомца за руку. — Quiet, follow me! (Молчи. Иди за мной!)
Внезапно на верхней ступеньке показался свет.
— Джери! — раздался голос Кацотакиса. — Это я, господин Андреас, Космас.
— Который час, Космас?
— Около двенадцати.
Из комнат донесся приглушенный голос госпожи Георгии. Медленные шаги Кацотакиса затихли, вместе с ним скрылся огонек.
Ступая на цыпочках и держа англичанина за руку, Космас прошел по коридору, поднялся по железной лестнице и вошел к себе. Хотя с улицы заглянуть к нему в окно было невозможно, он все же задвинул ставни и только после этого зажег свет. Гость был высокий белокурый мужчина, заросший бородой. Одежда висела на нем клочьями. Шея была покрыта синяками и царапинами. Из уха сочилась кровь. Она запеклась на рыжеватой бороде и шее.
— Ты англичанин? — спросил Космас и повторил свой вопрос по-английски: — Are jou English?
Гость не ответил и в свою очередь спросил:
— Do you speak English well? (Вы хорошо говорите по-английски?)
— I don’t speak well, but I can get by. Who are you? (He так уж хорошо, но объясняться могу. Кто вы?)
Неизвестный сел на стул.
— Послушай, — сказал он по-гречески, — я ничего не скажу. Знай только, что я англичанин. Ничего другого я тебе сказать не могу. В твоей власти спасти меня или выдать немцам.
Он говорил по-гречески почти без ошибок, но по произношению сразу можно было угадать, что он иностранец.
— Ты знаешь, чем я рискую, укрывая тебя? — спросил Космас.
— Знаю. Ты рискуешь больше, чем я. Можешь поступить как хочешь.
Англичанин умылся, поел и пристроился на диване. Космас укрыл его своим одеялом. Сам он лег на кровать и набросил на себя пальто, но всю ночь не мог сомкнуть глаз. Англичанин храпел во сне.
Что с ним делать? Где спрятать понадежнее? Космас перебрал одного за другим всех своих знакомых, но так и не нашел никого, кто мог бы ему помочь. Думал Космас и об опасности, которая теперь ему угрожает. Но ни на секунду ему не пришло в голову, что он может избежать этой опасности, выдав англичанина.
Бегство пленных англичан положило начало тайной войне между жителями города и немцами. Немцы грозили покарать смертью каждого, кто примет хотя бы малейшее участие в укрывательстве. Троих уже повесили. Их трупы четыре дня висели на фонарных столбах в самом центре города. Немцы устраивали облавы, наводнили улицы шпионами, сеяли панику. Но прошел месяц со дня побега, а из двенадцати беглецов поймали только троих.
Держать англичанина у себя Космас долго не мог. Он боялся Кацотакисов и особенно Джери, которого старался по возможности избегать. На днях Джери заходил к нему вместе с Зойопулосом. Они стучали в дверь, но Космас не открыл им.
Англичанин еще спал. Космас подошел и потряс его за плечо. Тот испуганно вздрогнул.
— Послушай! — сказал Космас и присел на краешек дивана. — Мне нужно идти на работу, я зайду в обед, и мы поговорим. А пока я тебя запру. Ты не боишься?
— Мне ничего другого не остается, — сказал англичанин недоверчиво. — Я в твоих руках, можешь поступать, как тебе заблагорассудится.
Космас показал ему, где лежат бритвенные принадлежности, вынул пару ботинок, брюки, рубашку. Англичанин был с ним одного роста, может быть, чуть повыше.
— Если услышишь, что кто-то открывает дверь ключом, спрячься в шкаф и замри.
Закрывая за собой, Космас увидел, что англичанин снова закрыл глаза. Кто знает, сколько ночей он не спал…
Анастасис пришел в магазин немного позже Космаса и вместо приветствия произнес слова, от которых Космаса бросило в холодный пот:
— Прежде чем немцы успеют переловить этих дураков англичан, те сами себя поубивают. Сегодня снова нашли одного задушенного на площади, возле уборной!
В полдень явился Феодосис. Он знал некоторые подробности. В полиции считали, что англичанина убили его же товарищи. Сначала между ними была сильная драка. Из окон одного дома видели их ссору, но приняли их за пьяных.
Феодосис остался в магазине до обеда, а потом потащил Космаса с собой в таверну.
Так Космасу и не удалось забежать домой. Раза два он порывался поделиться своей тайной с Феодосисом, но тот, на его счастье, болтал без умолку и не дал Космасу раскрыть рта. Вчера вечером у него было три свидания, через два часа каждое — в шесть, восемь и в десять. Женщины так и вешаются ему на шею. Черт знает, как от них избавиться! И чего только они не сулят ему! Он всерьез подумывает уйти из полиции и жить у каждой по очереди: два дня — у одной, три — у другой… Пока обойдет всех, пролетит год, а то и больше. Может быть, Космас ему поможет? Феодосис был бы ему очень обязан.
Слушая его, Космас благодарил судьбу за то, что не начал с Феодосисом серьезного разговора.
* * *
Услышав скрип ключа, англичанин вскочил, но не спрятался в шкаф. Он был побрит, в рубашке, брюках и ботинках, которые оставил ему Космас. Теперь он казался лет на десять моложе.
— Ты один? — был первый его вопрос.
Космас не понял.
— Ты не пришел в обед, и я испугался, что ты приведешь немцев. Побрился, надел твои вещи, съел все, что нашлось, выпил вина и стал ждать ареста.
Космас принес хлеб, сыр и колбасу. Они поужинали в потемках. За едой Космас рассказал о задушенном англичанине. Но это сообщение не взволновало гостя. Он молча продолжал есть. Весь вечер он держался очень осторожно. Космас пробовал заговорить с ним, но в ответ получал односложные «да» и «нет».
После ужина Космас лег спать. Англичанин тоже растянулся на своем диване, но через час встал и зажег свет. Космас прикрикнул на него:
— Погаси сейчас же! Зачем тебе свет?
Англичанин не ответил. Он сидел на диване, и взгляд у него был такой странный, что Космасу стало не по себе.
— Зачем ты притворяешься? — спросил англичанин. — Ты же меня предал. Ты предал меня или нет?
— Послушай, — сказал Космас и потушил свет. — Если ты не доверяешь мне, вставай и уходи.
Англичанин некоторое время молчал, потом встал с дивана.
— Ну, я пойду.
— Куда ты пойдешь? — спросил Космас.
— А, значит, тебя это интересует?
На подоконнике лежал столовый нож. Космас на всякий случай зажал его в руке.
— Если уходишь, иди сейчас, пока на улицах есть еще народ.
— Зажги свет! — потребовал англичанин.
— Не зажгу! Я открою дверь, и ты уйдешь.
— Хорошо. Открой дверь, но ко мне не подходи.
В комнате было темно. Космас смутно различал на стене тень англичанина, который стоял около дивана. Держась за стену, Космас добрался до двери и отпер ее.
— Ну, иди, — сказал он англичанину.
Тот не двигался с места.
— Почему ты не зовешь их? Пусть входят.
— Кто?
Несколько минут оба молчали.
— Ты в самом деле меня не предал?
— Ты уйдешь?
— Я никуда не пойду. Если ты предал, зови их. Если не предал, запри дверь.
Он снова сел на диван. Когда Космас запер дверь, англичанин уже лежал. У Космаса отлегло от сердца. Он лег на кровать. Наступила тишина. Оба делали вид, что спят. Англичанин, как видно, не на шутку переволновался. Он так и не заснул до самого утра, все время ворочался с боку на бок, то и дело садился на диване, к чему-то прислушивался, как загнанный волк. Дважды он спрашивал Космаса: «Ты спишь?» Космас не отвечал. Но он тоже не спал и до утра не выпускал из рук столовый нож.
Утром, когда Космас собирался на работу, англичанин притворился спящим. Космас хотел уйти, не говоря ему ни слова. Но едва подошел к двери, как услышал вопрос:
— Уходишь?
— Иду доносить на тебя, — сказал Космас и засмеялся.
Заметив, что шутка не попала в цель, он сказал серьезно:
— Спи спокойно! Не бойся!
Англичанин не ответил.
IX
Космас вышел и запер за собой дверь. На лестнице он столкнулся с Джери.
— Стой! Куда ты? Сегодня день великого испытания!
Космас вздрогнул. Приди Джери двумя минутами раньше…
— В чем дело? Какое испытание?
— Только что мне звонил Аполлон. Выступление назначено на сегодня. Мы все идем в университет.
— А я тут при чем? Ведь я не студент!
— Не городи ерунду! Это решительный день, и мы должны выступить единым фронтом. Пойдем, тебе нужно одеться.
— Куда?
— К тебе, переоденься.
Космас объяснил, что у него все равно больше нечего надеть, — и если он пойдет, то пойдет так.
— Но так нельзя! Внешний вид имеет большое значение. А так ты смахиваешь на пролетария, и если наши примут тебя за коммуниста, то тебе несдобровать. Пойдем ко мне, я дам тебе галстук.
Они стояли на уровне окна. Если бы Джери посмотрел в ту сторону, он мог бы увидеть англичанина. Космас решил не испытывать судьбу и безропотно последовал за Джери.
По дороге к университету Джери сообщил ему о плане действий. Немцы закрыли было университет, но теперь решили снова его открыть, и сегодня там начинаются занятия. По этому случаю совет постановил провести боевое выступление национальных сил. Рассчитывали, что придет человек сто, а коммунистов в университете не больше пятидесяти — шестидесяти.
— Задача состоит в том, — говорил Джери, — чтобы в первый же день показать мощь национальной партии. Это должно повлиять на нейтральную массу, которая составляет большинство, но кучка коммунистов своей демагогией и фанатизмом сумела увлечь ее за собой. Объявили национальную борьбу своей монополией, спекулируют на патриотизме, ни с кем другим не считаются. Пора положить этому конец, пора поставить все на свои места. Достаточно посмотреть на них, чтобы понять, что это за люди! Заросшие щетиной, без галстуков, одежда мятая, обтрепанная — человеческое отребье. Часть беспартийных студентов запугана, остальные махнули рукой и подписывают все, что им ни подсунут. Университет стал рассадником красной заразы! Но стоит нейтральным почувствовать нашу силу, и они перейдут к нам. От коммунистов мы оставим мокрое место. Аполлон решил дать им бой, и он прав. Хорошее начало — залог победы.
— Что за человек этот Аполлон? — спросил Космас.
— Он тебе понравился?
— Да, он производит хорошее впечатление.
— Аполлон рожден быть вождем. Он дьявольски умен. И кроме того, красив, а ум и красота…
И он рассказал, что Аполлон сын генерала Доксатоса, легендарного героя албанской эпопеи {[45]}. В восемнадцать лет добровольцем ушел на албанский фронт, был ранен и награжден орденом Отваги. Сейчас учится на медицинском факультете, учится превосходно, но жаль, что тратит себя на медицину, в социальных науках он мог бы добиться большего. А его скульптуры…
— Ты только взгляни на его руки! Этим рукам послушна глина, но они умеют и сжиматься в кулак. Аполлон боксер. Драки с коммунистами для него детские игрушки. Единственный его недостаток — отсутствие политической гибкости, слишком уж привержен старине, принципам прошлого века. Сейчас они безнадежно устарели, следовать им — политическое самоубийство. К счастью, Аполлон очень энергичен, и это компенсирует его недостатки.
Тут Космас осведомился о Спилиадисе.
— Голова! Хотя, конечно, не Аполлон! Мягкотелый немножко, но коммунистов ненавидит, и это его выручает.
Они вышли на Университетскую. Площадь была пуста. Джери сказал, что сбор во дворе и на улице Синаса, в зале юридического факультета. Битва развернется на двух фронтах — в амфитеатре центрального здания и у юристов.
* * *
Едва они спустились по ступенькам к статуе Григория V, как услышали гул, доносившийся со двора. Джери схватил Космаса за руку.
— Слышишь? Это они!
Космас растерялся. Он совершенно не представлял, какую роль в этой истории придется играть ему. Джери прильнул к решетке, стараясь разглядеть своих друзей, становился на цыпочки, пытался просунуть голову сквозь железные прутья и наконец разочарованно повернулся к Космасу:
— В чем дело? Я никого не вижу!
Космас тоже заглянул во двор. Он увидел студентов, юношей и девушек, которые группами гуляли перед зданием и оживленно разговаривали. Как видно, они ждали начала занятий.
— Нет, ты посмотри на их морды! — услышал он позади голос Джери. — Не университет, а пролетарская пивнушка! — Нервно покусывая губы, он поглядывал то во двор, то на улицу Академии.
— Может быть, они уже в здании? — машинально спросил Космас.
— Пошли.
Джери махнул рукой и направился к входу. Но возле двери остановился и пропустил вперед Космаса.
— Сначала ты. Меня здесь знают.
Космас вошел и услышал за своей спиной чей-то оклик:
— Ваше удостоверение, коллега!
Голос звучал иронически. Космас оглянулся и понял, что окликнули не его, а Джери. Космас инстинктивно сделал несколько шагов вперед и снова обернулся. Джери доказывал, что никто не имеет права его останавливать. Тогда подбежал еще один студент:
— Да он из коммерческого. Я его знаю, черносотенец…
Несколько студентов столпились у двери. Один из них усмехнулся:
— Молодчики Доксатоса!
По спине Космаса пробежали мурашки. Лучше всего было бы уйти, но удержало опасение, что его сочтут трусом.
Студент, остановивший Джери, черный как негр, с сигарой в зубах, дружески похлопывал его по плечу и потихоньку подталкивал к выходу, приговаривая:
— Проходите, проходите, уважаемый коллега. Вы ошиблись дверью.
Он улыбался, обнажая прекрасные белые зубы.
— Вы не имеете права! — горячился Джери.
— Прошу вас… прошу… не волнуйтесь! — забавлялся «арап». — Подите выпейте молочка… Ваша мама уже беспокоится. Прошу вас, уважаемый коллега.
Джери сошел на тротуар и исчез. Космас бесцельно бродил по двору, не зная, что ему делать. Двор снова принял мирный вид, студенты ходили по кругу, продолжая свои разговоры. На Космаса никто не обращал внимания. Вдруг за решеткой показалось бледное лицо Джери. Он делал ему знак подойти. Космас осторожно приблизился к решетке и увидел вместе с Джери Зойопулоса.
— Космас, — сказал Джери, — постарайся найти Аполлона и скажи ему, что мы здесь. Ищи его в амфитеатре.
Но едва Космас отступил от решетки, как один из студентов подошел к нему и попросил предъявить удостоверение.
— Удостоверение? — растерянно переспросил Космас.
— Чего дурака валяешь? Давай сюда удостоверение.
— У тебя его нет, коллега? Может, ты оставил его дома? — спросил насмешливый девичий голос.
— Какой там коллега! — крикнул студент. — Знаем мы его! Это громила из Петралон!
— Внимание, друзья! Не вступайте в драку. Это провокация Доксатоса.
— Вон! Вышвырните его вон!
— У него нет удостоверения! Он не студент!
— Какой там студент! Он из охранки! Знакомая морда!
— Вон!
Они начали толкать его к выходу. Откуда-то появился Аполлон. Он начал говорить, но его никто не слушал. Обоих вышвырнули за дверь. Какой-то гигант крикнул Аполлону вдогонку:
— Улепетывай-ка лучше подобру-поздорову!..
Весь двор содрогался от убийственного смеха студентов. Космас окончательно растерялся. Последний удар ему нанес девичий голосок:
— Коллега! Галстук у Доксатоса одолжил?
* * *
Национальные силы собрались на противоположном тротуаре, около гражданского госпиталя. Вместе с Космасом здесь было шесть человек. Все, кроме Зойопулоса и Аполлона, были испуганы. Зойопулос недоумевал, почему вместо ста национально мыслящих человек, лично им оповещенных и давших согласие явиться, пришло шесть. Аполлон, наоборот, удивлялся тому, что вообще кто-то явился.
— Браво! — то и дело повторял он. — Хорошо, что хоть вы-то пришли. Я думал, что окажусь в полном одиночестве.
Космас почувствовал к нему смутную симпатию: даже в этом положении Аполлон не терял присутствия духа и чувства юмора.
— Вот так так! — насмешливо шутил он. — Новая тактика медленно, но успешно претворяется в жизнь благодаря железной дисциплине и исключительной спаянности членов организации.
— И ее одаренным вождям, — съязвил незнакомый Космасу юноша.
— И вождям тоже!
Джери нервно расхаживал по тротуару и курил одну сигарету за другой.
— Я уже хотел схватиться с этим арапом у двери…
— И хорошо, что не схватился. Трудно поручиться, что арап остался бы в долгу…
— Так что же делать дальше, Аполлон? — спросил Федон — юноша с усиками, в золотых очках.
Джери внес предложение:
— Нужно обежать факультеты, собрать всех наших и нанести неожиданный удар. Надо же начинать, черт подери!
— Какое уж тут начало! Нас только шестеро, а их тьма-тьмущая.
— Не так уж их много, Ненес, — возразил Джери. — Беда в том, что они умеют ловить простаков на удочку.
— Если бы так! — усмехнулся Аполлон. — Ну, слушайте. Кто не прочь поработать кулаками, пусть следует за мной. У меня сегодня хорошее настроение, не откажусь расквасить нос какому-нибудь коммунисту. Но могу обойтись и без вас.
В эту минуту показался Спилиадис, катившийся на своих коротких ножках, как колобок. Он подлетел к ним, разгоряченный и возбужденный.
— Чего вы стоите?! — крикнул он и тряхнул головой, поправляя съехавшие очки. — На улице Солона уже действуют коммунистические агитаторы. Я влез на трибуну, но меня стащили под общий свист. Никто меня не поддержал. Чего вы тут топчетесь?
— Скажи спасибо, что остались живы! — отшутился Аполлон.
— Это хорошо, но необходимо что-то предпринимать. Совет ждет от нас действий.
— Что же вы предлагаете?
— Пойдем вместе на улицу Солона. Я снова попробую выступить.
— Всемером? Да нас поднимут на смех, — сказал Федон.
Тут снова вмешался Джери:
— Нужно послать за подкреплением.
— За каким подкреплением? Откуда мы его возьмем?
— Если мы сегодня проиграем, положение будет непоправимым. В таких вопросах колебаться нельзя, нужно идти на крайние меры. Необходимо вызвать полицию.
Все поглядели на Аполлона.
— Этого не будет, — ответил он.
— Что же тогда?
— Лучше пойти всемером или не ходить совсем, но прибегать к таким средствам позорно.
— Не пойти нельзя. Есть приказ совета.
— А если мы пойдем, нас осмеют. Спилиадис заявил, что солидарен с Джери.
— И это мнение совета? — спросил Аполлон. — Я не могу согласиться и поэтому не пойду с вами.
— Значит, вы покидаете нас, господин Доксатос? — Спилиадис обиделся. — Но это с вашей стороны…
Договорить он не осмелился. Аполлон смотрел на него с высокомерной улыбкой.
— Ну ладно, пойду с вами. У меня сегодня чешутся кулаки. Только предупреждаю: с появлением первого же полицейского я исчезну.
* * *
Студентов они разыскали не в зале на улице Синаса, а в амфитеатре юридического факультета на улице Солона. Когда они вошли, амфитеатр был уже переполнен. Возле кафедры сгрудилась толпа. Оратор держал торжественную речь от имени студенческого комитета.
Их появление было встречено шепотом, пронесшимся по рядам. Студенты вставали со своих мест, чтобы разглядеть вошедших.
Шум нарастал. Оратор повысил голос и, глядя на пробиравшегося вперед Спилиадиса, сказал, что студенческое движение едино и студенты будут беречь это единство как зеницу ока, они выставят из университета всех раскольников и штрейкбрехеров, которые задумали внести разброд в общенациональную борьбу. Послышались аплодисменты и крики: «Долой Раскольников!», «Долой врагов студенческого движения!»
Спилиадис, нисколько не растерявшись, резво вскочил на трибуну и начал речь. Его встретили свистом и хохотом.
Джери и Зойопулос аплодировали, Аполлон тоже, однако Космас слышал, как тот со смехом сказал Зойопулосу:
— Он и в самом деле очень забавный.
Слов Спилиадиса не было слышно за гулом аудитории. Но он добился того, что шум заглушил и другого оратора, который отчаянно жестикулировал и напрасно надрывал горло. Под конец обескураженный оратор понял, что все его усилия тщетны и Спилиадис, прочно укрепившийся на кафедре, так и не даст ему говорить. Тогда он схватил Спилиадиса за ухо и попытался стащить его силой. Не тут-то было! Спилиадис и не думал сдаваться. Он обхватил кафедру руками и, ни на минуту не смолкая, старался в то же время высвободить свое ухо из пальцев противника. При этом он страшно гримасничал; видно, соперник действовал решительно и энергично. Зрелище было препотешное.
Тут Аполлон дал сигнал к действию.
— Если мы не вмешаемся, нас освищут.
Он ринулся к кафедре и схватил за ухо студента. Студент оставил в покое Спилиадиса и напал на Аполлона. Тот ответил, и оратор свалился в зал, увлекая за собой Спилиадиса. В течение некоторого времени Аполлон, отражая атаки и раздавая направо и налево искусные удары, никого не подпускал к трибуне. Из зала в него бросали книгами, сумками, чернильницами, но он был неустрашим. Вдруг в последнем ряду встал какой-то гигант и не торопясь направился к кафедре. Аполлон было бросился на него с кулаками, но гигант одной рукой схватил Аполлона за волосы, другой за брюки и одним движением сбросил его вниз.
Между тем в амфитеатре драка разгорелась не на шутку. Кого-то из компании Аполлона зажали в угол и били смертным боем. Раза два над толпой показалась круглая рожица Спилиадиса, на этот раз без очков, и снова скрылась. Космас заметил Зойопулоса, убегавшего через маленькую дверь возле кафедры. Джери, держась за нос, промчался к центральному входу. Космас побежал за ним, но потерял его из виду. Потом он встретил Джери у дверей. Тот возвращался с победным кличем:
— Идут! Идут! Ну, теперь держись!..
Он вытирал кровь и от нетерпения приплясывал на месте.
— Что случилось? — спросил Космас.
Ответа не понадобилось. По лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, бежали полицейские с пистолетами и нагайками в руках. Среди них Космас увидел Федона и Зойопулоса.
— Ну, теперь мы им покажем! — крикнул Джери и пронесся мимо Космаса, на ходу отпустив оплеуху подвернувшемуся под руку студенту.
Полицейские ворвались в двери и натолкнулись прямо на Космаса.
— Взять его! — крикнул полицейский в черном мундире.
— Не его! — послышался голос Федона.
— Как не его? Да я по морде вижу, что бандит!
И он хлестнул Космаса нагайкой по лицу…
X
Англичанин хохотал до слез, слушая рассказ Космаса об утренних событиях и о его фиаско.
В тот вечер он понемногу развязал язык и признался, что первые два дня был уверен в предательстве Космаса.
Он думал, что дом уже окружен, но его нарочно не арестовывают: ждут, не проболтается ли он о чем-нибудь в разговоре с Космасом. Поэтому он и сказал, что уйдет, — хотел посмотреть, как поведет себя Космас.
Теперь Космас заметил, что нервы у англичанина издерганы, хотя вначале его поразило именно хладнокровие гостя. Англичанин объяснил, что им тогда владела полнейшая апатия, все было нипочем. Особенно тяготило его убийство товарища. Он рассказал, как это произошло.
Дней десять они, трое англичан, прятались в доме неподалеку от площади. Но когда накатилась новая волна обысков и немцы повесили трех греков, хозяин выгнал англичан за дверь. Один из трех страдал от аппендицита. Как раз в тот день его схватил приступ, он долго корчился от боли и, наконец, решил сдаться немцам. Двое других старались удержать его, но он не желал ничего слушать. Тогда они в драке задушили больного товарища. Труп его решили спрятать в бочке, но в это время показался патруль, и они кинулись в разные стороны. Так они потеряли друг друга.
Теперь англичанин забрасывал Космаса вопросами: что говорила полиция о задушенном, установлено ли имя другого убитого англичанина, видел ли его Космас, опубликованы ли имена тех, кто схвачен? Космас ничего об этом не знал.
Англичанин назвался Космасу Крисом. Это не настоящее имя, но пусть Космас зовет его так. Космас спросил, откуда он знает греческий. Тот ответил, что до войны работал в Греции на конном заводе. Где именно, когда — этого он не скажет. Греческий язык он знал хорошо, но боялся, что его выдаст произношение, и поэтому не выходил на улицу: на каждом перекрестке стояли агенты охранки.
Время шло. Немцы прекратили обыски, история с англичанами стала забываться. Крис свыкся с обстановкой и, когда вспоминал о ночном эпизоде, смеялся над своим страхом и просил у Космаса прощения. Он говорил, что верит Космасу, как самому себе.
Однажды вечером Крис признался ему, что он офицер английской армии, что их побег был организован друзьями из Каира, но теперь он потерял всякую связь с ними. Не знает ли Космас людей, которые могли бы ему помочь бежать в Каир? Тогда он возьмет с собой и Космаса.
Мысль о Каире овладела Космасом всецело. Теперь он только и жил этой мечтой. Уехать в Каир — вот выход из положения! Нельзя же вечно отсиживаться в изюмной лавочке Исидора в такое страшное для страны время! Бог знает, как долго это может протянуться: немцы запретили передвижение по стране всем, кроме спекулянтов, и Космас не мог вернуться к себе на родину, в провинцию. Да и что бы он стал там делать?
С каждым днем Космас укреплялся в своем желании уехать в Каир вместе с Крисом. Во время отступления 1941 года греческие корабли укрылись в каирском порту, там же собрались и остатки разбитого войска, и всю зиму в Каир уезжали греки: кто тайно, на кораблях, отправлявшихся с южного побережья Крита, кто через острова Эгейского моря и оттуда через турецкие порты. Они переправлялись в Ливан и Египет, являлись в греческую армию и продолжали войну.
— Поедем, — говорил Крис. — Только нужно найти верных людей, связаться с ними, и тогда поедем.
Ночи напролет они строили планы.
— В городе есть люди, которые организовали ваш побег, — говорил Космас. — Значит, нужно их найти. Это сейчас самое верное.
— Но и самое трудное, — возразил Крис. — Связь с ними держал мой товарищ. А где его теперь найдешь? Легче будет связаться с какой-нибудь подпольной организацией.
О националистической организации Крис не хотел даже слышать. Космас рассказал ему об их собраниях, о вечерах в доме Кацотакиса, а когда он дошел до появления немцев, устроивших облаву на англичан, Крис вспыхнул:
— Эти националисты теперь способны на все. Они не хотят помогать союзникам и выжидают, на чью сторону склонятся весы.
— Но они сколачивают организацию!
— Ими руководит ненависть к ЭАМ. Она движет всеми их поступками. Не знаю, что они будут делать завтра, но сегодня они вредят.
— А ЭАМ, Крис?
— Кто знает, что из этого выйдет?.. Но сейчас это единственная организация, на которую можно положиться.
* * *
Пребывание Криса в комнате Космаса становилось день ото дня все более опасным.
На днях Анастасис увидел, как Космас покупал хлеб на площади.
— Ты же раньше никогда ничего не покупал, — изумился Анастасис. — Тебе хватало карточки. Какого черта, или аппетит у тебя сейчас вырос вдвое?
В другой раз Исидор задержался в магазине. Опасаясь, что не успеет добраться домой раньше двенадцати, он хотел переночевать у Космаса. К счастью, все обошлось: позвонили Феодосису, и он отвез Исидора на машине.
Необходимо было подыскать для Криса другое убежище. Как-то вечером в магазин заглянул Андрикос. Это и решило дело. Крис согласился переехать. Он был не на шутку встревожен рассказом Космаса, да и вообще в любом случае было благоразумнее устроиться подальше от этого района. Андрикосу Космас сказал, что Крис провинциал, у которого еще не выправлены нужные документы. Через несколько дней дело с его бумагами уладится, и он уедет.
Космас купил Крису шляпу, пиджак, бритвенный прибор, носки, рубашку и две смены белья. И воскресным вечером, одевшись во все новое, Крис вышел из дома Кацотакиса.
На углу его ждал Андрикос с бидоном в руках.
Крис подхватил ручку бидона, и они стали подниматься к улице Афины.
XI
Каждый вечер, когда работа в магазине шла на убыль, Манолакис выносил на тротуар стул и раскладывал на нем свой товар — табак, курительную бумагу и сигары.
Сигары он делал толстые, свернутые на константинопольский манер. Исидор не только бойкотировал его товар, но и отваживал других покупателей. Стоило кому-нибудь подойти к стулу Манолакиса, как Исидор кричал:
— Не лучше ли тебе, милейший, пойти за сигарами на площадь? Ведь этот негодяй продает константинопольский навоз?!
Сам Исидор не курил. Но когда мимо проходил бродячий продавец сигар, он зазывал его и покупал парочку сигар только для того, чтобы позлить Манолакиса. И все время жаловался, что заработает туберкулез от той пакости, которую ему подсовывает под видом сигар Манолакис.
— Шейлок! — кричал он на Манолакиса. — Забирает себе наши трудовые гроши, и ему наплевать, что мы зарабатываем туберкулез горла!
Однажды у продавца сигар, которого зазвал Исидор, товар оказался точь-в-точь такой же, как у Манолакиса. Манолакис сразу догадался, из каких краев его соперник. Он посмотрел на него большими кроткими глазами и спросил:
— Ты не из Константинополя, сынок?
— Из Константинополя, отец. — Продавец был лет на тридцать моложе своего собеседника.
— А откуда?
— Из Таксими{[46]}.
— Из Таксими! — как угасающее эхо, прозвучал голос старика. — А когда ты приехал в Грецию, сын мой?
— Да будет проклят тот день! Перед войной.
— А где ваш дом в Таксими? Где вы жили?
— На Агией Триаде.
— Господи боже мой! А как твоя фамилия?
— Арампадзис.
— А кто твой отец? Аристидис?
— Аристидис.
— На все твоя воля, господи! До чего мы докатились! Сын Аристидиса продает сигары! А жив твой отец?
— Жив!
— Слава тебе, господи, ведь он мой лучший друг!
— Распутничали небось вместе! — снова выкрикнул Исидор.
Манолакис впал в глубокую меланхолию.
— А вы, хозяин, если позволите задать вопрос, вы тоже из Константинополя? — в свою очередь поинтересовался Арампадзис.
— Это Стависский! — крикнул из магазина Исидор. — Он надул всю Бельгию! Другого такого мошенника свет еще не знал.
Манолакис бросил на Исидора взгляд, просивший о пощаде. Потом ответил Арампадзису:
— Из Константинополя, сынок.
— А откуда именно?
— Лучше не спрашивай. И ты не узнаёшь меня, сынок?
— Нет, — ответил тот.
— Я господин Паридис!
— Боже мой! Господин Эммануил!
Арампадзис опустил на землю лоток с сигарами и кинулся на шею Манолакису. Глаза старика заслезились.
— До чего мы докатились! — вздохнул Арампадзис. — Господин Эммануил торгует сигарами…
Голос старика дрогнул:
— Где теперь твой отец, дитя мое?
— Здесь, господин Эммануил. И лучше не спрашивайте, что с ним. Вот уже год, как он не встает с постели. Лежит и делает для меня сигары.
Земляки сели на тротуар и отдались воспоминаниям. В воображении они перенеслись в турецкие и греческие кварталы Константинополя, потом со вздохами и стенаниями начали обсуждать горестное настоящее:
— Сын Аристидиса продает сигары!
— Господин Эммануил! Господи, сжалься надо мной…
Беседа получила неожиданную развязку. Коллеги поделили сферы влияния: площадь Героев с прилегающими к ней улицами отходила в безраздельное пользование господину Эммануилу, вся остальная территория — фирме «Арампадзис».
* * *
Как-то вечером Манолакис решил навестить своего старого друга. Вместе с ним пошел и Космас.
Арампадзис жил в бедном поселке Сеполия, на самой окраине города. Они доехали на трамвае до святого Мелентия, дошли до самого конца улицы Диррахия и отворили деревянную калитку. Перед ними открылся большой грязный двор, по краям которого теснились деревянные домики, крытые железом.
Они постучали в первый. Какая-то женщина, сидевшая на полу перед противнем с мытой картошкой, показала им в конце коридора дверь, ведущую в комнату Арампадзиса. Коридор был длинный и темный, пахло сыростью.
Манолакис прошел вперед и постучался к Арампадзису. В этот момент рядом с Космасом распахнулась соседняя дверь, и из нее вышла девушка.
Их глаза встретились.
Космасу казалось, что эта сцена происходит не с ним, что он видит ее где-то на киноэкране. Он слышал, как открылась другая дверь и мужской голос произнес: «Господин Эммануил!» Потом Манолакис приглашал Космаса к Арампадзису. Но он не отвечал. И не двигался с места. Девушка тоже не двигалась. Она взволнованно и растерянно смотрела на него большими черными, такими неожиданно знакомыми глазами. Знакомыми были и ее смуглое лицо, и черные волосы, и стройная фигурка уже не девочки — девушки.
Манолакис больше не звал его. Дверь Арампадзисов закрылась.
— Космас! — сказала наконец девушка. — Как ты здесь очутился?
Она силилась улыбнуться, и Космас видел, что она тоже в смятении. Это придало ему бодрости.
— Да я и сам не знаю, Янна. Случайно… И вдруг такая радость…
Наступило продолжительное молчание. И на этот раз нашлась Янна. Она засыпала его вопросами: «Что сталось с таким-то? Когда ты приехал? Как гимназия?» Космас едва успевал отвечать. Неловкость быстро рассеялась, оба были очень рады.
Но когда Космас спросил, здесь ли она живет, Янна смутилась и сказала, что здесь живет портниха, которая шьет ей платье. Космас понял, что это неправда. Чтобы не ставить Янну в неловкое положение, он перевел разговор на себя и стал рассказывать о том, как попал в Афины, как поступил на работу в изюмную лавку. Рассказывал про Исидора, про Манолакиса, про то, каким образом оказался в этом доме. Темы этой хватило до самой остановки трамвая.
Янна сказала, что едет к своей тете. Сначала на трамвае до площади Аттики, оттуда на автобусе до Лиоссии, там снова на трамвае. Космас понимал, что Янна хочет отделаться от него. Возможно, войдя в трамвай через одну дверь, она выйдет через другую или спрыгнет на ходу, — кто знает, в чем замешаны Янна и ее отец, ведь он, наверно, подпольщик и живет нелегально. Кто знает, как сложилась с тех пор жизнь Янны, какие ветры носили ее, по каким тропам ступали ее ноги! Космас знал ее девочкой в черном школьном передничке, в белом кружевном воротничке, с маленькими косичками и зелеными бантиками — теперь перед ним была женщина.
Вышла ли она замуж? Этот вопрос вертелся у него на языке, но задать его Космас так и не решился. Да и к чему спрашивать? Скоро подойдет трамвай, он увезет Янну, и Космас никогда больше ее не увидит.
— Мы больше не увидимся, Янна?
Она не удивилась его вопросу.
— Завтра я уезжаю, Космас.
— Уезжаешь? Завтра?
— Да. Моя тетя…
Опять тетя! Эх, Янна! И почему ты не говоришь правду? Дело ведь не в тете, а в твоем отце. Ты связана с его таинственным миром, ты одна из спиц огромного колеса. Кто знает, куда ты сейчас идешь! И не делай вид, что рада нашей встрече. Тебя радуют лишь встречи с теми, к которым ты сейчас спешишь… Почему ты не говоришь мне этого, Янна?
Но вслух он ничего не сказал. И когда Янна стала объяснять ему, что тетя неожиданно заболела, Космас остановил ее:
— Я понял, Янна. Не нужно, я понимаю…
…И он остался один посреди площади, глядя вслед трамваю, увозившему Янну, хотя, наверно, Янны в трамвае уже не было. Она, конечно, выпрыгнула на ходу и теперь возвращается другой дорогой назад, в тот дом, где они встретились, входит в комнату рядом с комнатой Арампадзиса. Наверно, она там живет.
Только тут Космаса вдруг осенила запоздалая мысль, Тьфу ты, черт, ведь он мог поговорить с Янной об англичанине! Крис просил его установить связь с ЭАМ. А через Янну можно было связаться с кем-нибудь из руководителей, ну, хотя бы с ее отцом!
Как теперь найти Янну? Он хотел было сесть на следующий трамвай и ехать на площадь Аттики, но ведь Янна наверняка сказала ему это для отвода глаз; если она не спрыгнула с трамвая на ходу, то уж, вне всякого сомнения, сошла на ближайшей остановке. Это такая же ложь, как ее выдумка о портнихе.
Но Космас заметил, из какой двери она вышла. И люди, которые там живут, — портниха или кто другой — должны что-нибудь знать о Янне. Он решил вернуться назад.
* * *
На его стук вышла старуха, высокая и худая, как бильярдный кий.
— Простите, — сказал Космас, — здесь живет портниха?
— Портниха? — удивленно переспросила старуха. — Ты ошибся, сынок.
— Может быть, я ошибся дверью? — спросил Космас. — Но ведь в этом доме живет портниха?
— Нет, — ответила старуха, — нет здесь никакой портнихи.
Дверь закрылась. Космас огляделся. Нет, он не мог ошибиться. Янна вышла отсюда. Он постучал еще раз.
— Я прошу прощения, — сказал он, — но у вас только что была мадемуазель Янна.
— Сохрани тебя бог, парень! — Испуганная старуха перекрестилась. — Да ты небось пьяный… Не знаю я, сынок, никакой Янны.
— Послушайте… — Космас чувствовал, что его настойчивость становится смешной. — Я видел, как она только что вышла от вас, понимаете? Мы давно знакомы… Но я забыл ей сказать одну вещь.
— Герасим! — позвала старуха. — О чем этот парень толкует?
В дверях показался рослый мужчина лет тридцати, в майке, обнажавшей огромные бицепсы.
— В чем дело, милейший?
— Я хотел видеть мадемуазель Янну. Она вышла отсюда, и мы вместе дошли до трамвайной остановки. Но я забыл ей сказать одну важную вещь.
— Ну ладно, хватит! Проваливай отсюда. Ты ошибся адресом.
Дверь с грохотом захлопнулась. Вот это промах! Большей глупости Космас никогда не делал.
Теперь он станет посмешищем. Старуха, хитрая лиса, стопроцентная коммунистка, сегодня же расскажет товарищам, как он стучался к ней в дверь, и все будут смеяться: и мастер Павел, и Янна, и ее муж, и вся их братия.
XII
Вот уже третий день Космас видел этого человека. Он расхаживал по тротуару возле магазина, и Космасу казалось, что каждый раз, проходя мимо, он бросает на него пристальные взгляды. Человек был в сером костюме, в кепке, со светлыми усиками. Утром третьего дня он вошел в магазин. В полдень зашел еще раз. В магазине кроме Космаса находился Манолакис. Человек порылся в изюме, осведомился у Манолакиса о цене и сказал, что зайдет потом.
Лицо его было знакомо. И еще больше знаком был голос: слегка в нос, с картавинкой. Космас долго ломал голову, и наконец за обедом вспыхнула догадка: уж не Тенис ли это?
Тенис был в гимназии лучшим футболистом, самым злостным курильщиком и неуемным драчуном. Однажды он побил учителя физкультуры, большого мерзавца, и его на год исключили из гимназии. Потом поймали в кафе за покером и снова исключили. Немного погодя весь городок всполошила любовная интрига Тениса с дочкой фининспектора Дней. На переменах Тенис не прятался в уборной, как остальные курильщики. Он курил во дворе, на глазах у гимназистов и преподавателей. Потом он покончил со всем сразу — с драками, с любовными похождениями и курением. В то время он связался с забастовщиками, и они сказали ему: «Если хочешь быть с нами, бросай эти глупости». И он бросил. От чрезмерного рвения оставил даже футбол. В самодеятельном театре он исполнял главную роль в «Двух сержантах», потом с большим успехом играл в «Чудаке». Но в конце спектакля, когда занавес опустили, явились жандармы и арестовали Тениса. С тех пор он больше не появлялся в городе. Его посадили в тюрьму, потом отправили в ссылку.
Когда после обеда Тенис зашел в магазин, Космас был один. На этот раз Тенис был в черном костюме, в шляпе и очках. Он вошел и, не говоря ни слова, сел за стол напротив Космаса — выглядело это очень театрально.
— Так ты и есть Космас? — проговорил он и загадочно улыбнулся.
— Да, я! А кто вы?
Тенис предпочел сохранять инкогнито.
— Некто! — ответил он таинственно и, нагнувшись к Космасу, тихо спросил: — Здесь можно говорить без опаски?
— Нет, нельзя. С минуты на минуту вернутся хозяева, и боюсь, что они не будут в восторге от встречи с тобой.
— Тогда сделаем так, — Тенис встал, — приходи вечером на площадь Кумудуроса, понял?
— Ничего я не понял.
Очевидно, встреча с Янной имела продолжение. Заметив незнакомого человека, расхаживающего около магазина, Космас догадался, что визит «к портнихе» не прошел бесследно. Старуха наверняка забила тревогу. И Тенис, по всей вероятности, был послан на разведку. Но Космас решил не вступать в беседу до тех пор, пока Тенис не откроет своего инкогнито.
— Ничего я не понял, — повторил он. — Приходит какой-то человек, назначает мне свидание на площади Кумудуроса. Откуда мне знать, кто ты такой и что это за свидание?
— К чему лишние слова? Несколько дней назад ты встретился с нашей общей знакомой Янной. Так?
— Да, так. И что из этого следует?
— Ты что-то хотел ей сказать.
— Хотел.
— Ну… вот и говори.
— Что значит «говори»? Уж не хочешь ли ты сказать, что ты и есть Янна?
Тенис рассмеялся.
— Ну и колючий ты, Космас!
— Да ты сам посуди, что получается. Ты мое имя знаешь, а я твоего не знаю.
— Да брось притворяться! — вспылил Тенис. — Ты что, не узнал меня? Какой же ты пелопоннесец после этого? Я Тенис!
Теперь засмеялся Космас.
— Да я сразу тебя узнал. Но на кой черт тебе понадобилась вся эта конспирация?
Они договорились встретиться вечером на площади.
* * *
Тенис пришел точно в назначенное время. Но сразу приступить к разговору им не удалось: Тенис долго озирался по сторонам, приглядывался к прохожим, к посетителям открытого кафе. Наконец он сам выбрал уединенную скамейку, и они сели.
Космас рассказал об англичанине, сообщив все, кроме его местопребывания.
— Я должен сначала договориться с ним, — сказал Космас. — Без его согласия я ничего предпринимать не могу. Я обещал ему это.
— Если ты нам не доверяешь…
— Я доверяю. Но речь идет не обо мне. Распоряжаться жизнью другого человека я не имею права.
— Поверь, он не подвергается никакой опасности. Наоборот. Мы поможем ему уехать.
— Вы можете его переправить в Каир?
— Думаю, что сможем. Так или иначе, у нас есть больше возможностей оказать ему помощь, чем у тебя.
Тенису необходимо было информировать свою организацию и получить указания. Они условились встретиться на другой день вечером на площади Конституции.
— Есть еще одно обстоятельство, о котором я хочу тебе сообщить, — сказал Космас, когда они прощались. — Англичанин обещал взять меня с собой.
— Куда? В Каир?
— Да, в Каир.
— Вот как? — Тенис улыбнулся. — Значит, ты решил дезертировать?
— Почему дезертировать? Зачем ты так говоришь?
Они поднимались по улице Эврипида.
— Ну, а как иначе я могу это назвать? Когда человек бежит с фронта, его называют дезертиром.
— Я бегу не с фронта, а на фронт.
— Странное у тебя представление о фронте! И что ты собираешься делать в Каире?
— Пойду добровольцем в армию. Ты считаешь, что это дезертирство? Там люди сражаются, а не сидят сложа руки. Где греческая армия? Там! Где авиация? Там! А что меня ждет здесь? Изюмная лавка? Ты мне это советуешь?
Космас разгорячился, Тенис спокойно остановил его:
— Если тебя интересует мое мнение, это самое настоящее дезертирство.
Они остановились на перекрестке улиц Менандра и Эврипида. Тенис взял Космаса за руку.
— Фронт, Космас, сейчас очень расширился. Враг повсюду. И самый страшный враг в нас самих. Если хочешь знать, добрая половина тех, кто уезжает из Греции в Каир, авантюристы, а остальные настоящие дезертиры. Встречаются, конечно, среди них и патриоты, которые на самом деле едут воевать. Но они, сами того не понимая, покидают важнейший участок фронта.
— О каком фронте ты говоришь?
— О самом важном. О том, который решает все. Лондон и Каир не спасут положения. Главная задача — бороться за душу народа, не допустить, чтобы ее растлили. Если мы потерпим поражение в этом, все кончено и для каждого из нас, и для всей нации в целом. Если сам народ не встанет на борьбу за свою свободу, он погиб. Если, дорогой Космас…
Тенис мог говорить часами.
И Космас внимательно слушал этот сухой, суровый, фанатичный монолог. И позже, оставшись один, он продолжал думать об этом разговоре. И не мог не признать, что Тенис рассказал ему о таких вещах, о которых он если и задумывался, то понять их истинное значение так и не сумел.
XIII
На другой день было воскресенье. Утром Космас направился к Андрикосу, чтобы повидаться с Крисом. Англичанин согласился связаться с организациями ЭАМ.
Возвращаясь домой, Космас пошел через площадь Конституции. Площадь бурлила. Со всех улиц сюда стекались потоки людей. Из ворот дворца выходили отряды полиции и жандармерии. Космас на какое-то мгновение оказался в колонне демонстрантов, но тотчас же выбрался на тротуар. Из колонны, спускавшейся с улицы Стадиу, ему крикнули:
— Ну куда же ты? Вперед, давай вперед!
Нахлынувшая людская волна увлекла Космаса с собой. Рядом он увидел женщину с огромным плакатом в руке. Красные буквы гласили: «Мы не хотим умирать!», «Хлеб народу!» Сзади подходили и подходили все новые колонны демонстрантов. И все несли лозунги: «Долой правительство предателей!», «Мы требуем увеличения зарплаты!», «Да здравствует нация!»
Космас снова выбрался на тротуар. Асфальт был усыпан прокламациями. Космас поднял одну из них: «Если мы не будем бороться как герои, гунны и предатели уничтожат нашу страну, наш народ». Попадались и совсем маленькие листки: «В руках народа — спасение родины. Народные столовые! Увеличение хлебного пайка до 100 граммов. Ни зерна оккупантам и квислинговцам!»
Колоннам не было конца. Полицейские пытались разгонять их водой из шлангов. Дворец был оцеплен, стеной стояли бронемашины. Вдруг с бульвара Кифиссии показался отряд кавалерии. Он помчался галопом прямо на колонны. С другой стороны, с улицы Филэллинов, на демонстрантов двигались военные грузовики.
Люди заметались, послышались крики:
— Варвары? Кого бьете?
— Виселица и анафема предателям! Раздавались проклятия, крики и стоны. Всадники врезались в толпу и хлестали нагайками направо и налево. Бронемашины бороздили площадь во всех направлениях, сгоняли народ на тротуары. Толпа хлынула на ближайшие улицы. Площадь мгновенно опустела, остались только раненые. Одни пытались подняться, другие бежали, держась кто за голову, кто за бок. За ними гнались полицейские.
Но тут с улицы Гермеса на площадь начали вливаться новые колонны демонстрантов. Полицейские не смогли сдержать напор толпы и начали отступать. Почти одновременно подоспели колонны с других улиц, и площадь снова наполнилась народом. Неподалеку от Космаса женщины окружили кавалериста и пытались стащить его с коня. Кавалерист отбивался нагайкой, но его все же сбросили на землю. Сапоги всадника описали судорожную кривую в воздухе и тотчас же исчезли в толпе. В седло вскочил один из демонстрантов, в белой рубашке, с непокрытой головой. Он размахивал руками и что-то кричал, потом подхватил транспарант, ударил лошадь, и она понеслась. Всадник уже поравнялся с полицейскими, двое из них придержали лошадей и набросились на него с нагайками. Демонстрант с размаху обрушил свой плакат на голову полицейского; тот потерял равновесие и упал. Другой полицейский изо всех сил хлестнул демонстранта нагайкой. Тот попробовал ухватиться за гриву лошади, но лошадь помчалась вперед и сбросила его на мостовую.
Атмосфера накалялась. С улицы Гермеса донеслась песня. Космас слышал ее впервые. По всей вероятности, она была сложена недавно.
Родина, в лихой неволе
Черный траур ты надела
И скорбишь о жалкой доле,
О сынах твоих несмелых.
Но взгляни — воскресла снова
Доблесть древнего народа.
Молви огненное слово,
И взовьется стяг свободы.
Над Университетской раздались первые выстрелы. Толпа дрогнула. Показались немецкие грузовики и танки. Появление танков внесло замешательство. Тогда от толпы отделилось несколько женщин. Они пошли прямо на танки. Снова раздались выстрелы. Демонстранты запели новую песню:
Вражьи пули не сломали
Воли гордого народа,
Наша клятва тверже стали:
Или смерть, или свобода.
Из-за танков показались кавалеристы. Они скакали прямо на женщин. Демонстранты снова начали отступать. Неподалеку завыли сирены немецких грузовиков.
Космас вместе с группой молодежи оказался на улице Стадиу. Все улицы, выходящие на Университетскую, были перекрыты бронемашинами и оцеплены немцами. Оставался лишь один проход — через улицу Стадиу. Космас вслед за своими спутниками направился к зданию социального обеспечения. В ту минуту, когда он уже занес ногу на тротуар, какая-то девушка с флажком дернула его за руку:
— Сюда, товарищ!
Рядом с бешеной скоростью промчался немецкий грузовик.
Несколько студентов перепрыгнули через решетку во двор парламента.
— Эй, вы! — крикнула им девушка с флажком. — Повесьте плакат на решетку!
Подбежав к решетке, она вскарабкалась на нее. Студенты снова запели. Космас кинулся к ним, но не успел. Отряд полицейских оцепил ворота, и Крсмас вместе с другими демонстрантами повернул к памятнику Колокотрониса{[47]}. На шее бронзовой лошади висел плакат: «Огнем и мечом покараем предателей!»
Они вышли на Парламентскую. Рядом с Космасом шагала окровавленная женщина; одной рукой она держалась за лоб, другой прижимала к себе ребенка.
Кто-то обнял Космаса за плечи. Он обернулся.
— Космас, ты?
Тенис! Весь в крови, одежда порвана, лицо в синяках и ссадинах.
Космас кинулся к нему.
— Что я вижу?! — воскликнул Тенис. — Какая чувствительность! Не ожидал я от тебя, Космас, таких сантиментов…
— Почему, Тенис?
— Почему? Может ли так раскисать человек, который одной ногой здесь, а другой в Каире?
Тенис шутил, но в этой шутке была немалая доля иронии.
Людское море ревело, военный гимн чередовался с древними боевыми кличами. Вокруг памятника Старцу бушевала толпа. Космас не мог найти нужных слов. Он обнял и поцеловал Тениса.
Чей-то женский голос прорвался сквозь шум толпы:
— Тенис! Тенис!
Тенис поднял руку.
— Я здесь!
Космас оглянулся.
На тротуаре в пяти-шести метрах от них в красном платье, с плакатом в руке стояла Янна.
XIV
На магазин обрушилось несчастье. Утром туда явились два гестаповца и один грек из спецохранки, в штатском. Им нужен был Исидор.
Обычно Исидор приходил в магазин раньше всех. Но в это утро он, на свое счастье, опоздал. Мари заболела рожей, и Исидор всю ночь бегал по аптекам, разыскивая ультрасептил.
В магазине были Манолакис и Космас. Первым вошел агент охранки. Послонявшись по магазину, он спросил Космаса:
— Это ты Хайдопулос?
Потом ворвались немцы, здоровенные детины в форме гестапо. Они потребовали паспорта, о чем-то поговорили между собой и вышли. Космас с Манолакисом так и не поняли, зачем им понадобился Исидор.
Раза два до обеда забегал в магазин запыхавшийся Феодосис. Он хотел предупредить Исидора. История была запутанная. На складе, который Исидор сдавал в аренду, хранилось оружие, целый арсенал. Арендатора, бедняка с кучей ребятишек, Исидору рекомендовал Феодосис. Чего ради тот связался с подпольщиками, Феодосис не мог понять.
Месяц назад владелец дома, где находился склад, получил анонимку, в которой ему сообщали, что Исидор пересдал склад в аренду. Автор письма рекомендовал донести об этом властям, потому что по закону арендатору запрещалось передавать объект аренды в третьи руки. Владелец дома последовал совету, но жалобе не успели дать ход. Прошлым вечером из спецохранки в полицейский участок поступил приказ немедленно приставить часовых к дому номер тридцать два. Однако, прежде чем полицейские явились на место, к складу подкатил грузовик и вывез почти все, что там находилось. Полицейские и гестапо прибыли одновременно, но нашли только разбросанные по полу патроны, ящик с пустыми итальянскими пулеметными лентами и несколько ручных гранат. На ящике лежал кусок картона с надписью: «Да здравствует Национально-освободительный фронт!» Немцы пытались дознаться, кто оповестил арендатора. Но так и не дознались. Тогда спросили, кому принадлежал склад. Так они добрались до Исидора.
* * *
Нужно было во что бы то ни стало сообщить ему о случившемся. Манолакис дежурил на одной стороне улицы, Феодосис — на другой. До самого вечера Исидор так и не появился.
Ночью он неожиданно постучал в комнату Космаса. В руках он держал чемоданчик, с которым никогда не расставался. Он бросил его на стол и лег на кровать. От шутливости Исидора не осталось и следа. Он выглядел очень скверно: желтый, осунувшийся, отчего нос его стал казаться еще больше.
Не говоря ни слова, Исидор закрыл лицо ладонями и заплакал. Космас никогда не поверил бы, что Исидор может плакать. Он попытался его унять, но безуспешно. Тогда Космас сказал, что их могут услышать Кацотакисы, Исидор перепугался и замолчал. Некоторое время он сидел, не открывая рта, потом спросил жалобным голосом:
— Что же теперь со мной будет, Космас?
Космас постарался его ободрить: ничего страшного не произошло, в худшем случае он потеряет магазин. Привлечь его к ответственности не могут: ведь он ничего не знал о проделках арендатора. Наконец Исидор успокоился и сам стал повторять аргументы Космаса:
— При чем здесь я? В чем я виноват? Я расскажу им обо всем по порядку, и они меня оправдают. Послушай, Космас, немцы, может быть, и жестокие, но справедливые. Они во всем разберутся, иначе быть не может, вот увидишь!
Он расхаживал по комнате, то и дело останавливаясь. Голос его срывался и переходил в крик:
— Я пойду, я объясню им все как есть! Я им скажу: у меня было два магазина, один я сдал — ну разве это преступление!
— А если они у тебя спросят, кому ты сдал?
Исидор не ответил и снова зашагал по комнате. Он вынул из чемодана бутылку раки и стал пить стакан за стаканом.
— Я должен сказать тебе одну вещь, Космас. Знай: меня предали.
Глаза у него были мутны от слез и вина.
— Предали? Кто?
— Этот гад Анастасис!
— Да что ты?!
— Да, этот негодяй. Он хочет избавиться от меня, понимаешь? Вот чего я боюсь. Ты не знаешь, что за фрукт этот Анастасис. Поэтому я и ублажал его, и обещал оставить ему магазин — все что угодно готов был посулить, лишь бы он меня не предал.
— А разве он знал о складе?
— Еще бы не знал! Да он извел меня, все просил, чтобы я сдал ему, а я сдал другому. Но только тот, кому я сдал, уже давно исчез.
— А что с ним стряслось?
— Откуда я знаю! Исчез! Несколько месяцев назад ко мне пришел не он, а какой-то другой парень. Попросил меня молчать, и мы уговорились, что он будет платить мне арендную плату, а я буду говорить, что помещение остается за мной. Вот так я и впутался в это дело, сам того не желая.
— А Анастасис?
— Он ко мне приставал, и я открыл ему секрет. А потом он небось проследил, что делается на складе, и донес. Он добьется своего — меня бросят в тюрьму, и магазин останется в его руках.
— Чтобы бросить тебя в тюрьму, надо все это знать.
— Они знают, это уж точно! Ты одного не учитываешь, Космас: жена Анастасиса работает в охранке.
— Тасия?
— Да, эта проститутка. Она сестра Калогерасов, и, будь спокоен, полиция знает все.
Пять братьев Калогерасов терроризировали всю округу. Особенно страшной славой пользовался старший. Однажды он со своей бандой напал на ребят из ЭАМ, писавших лозунги. Одного парня он убил и кровью написал на стене: «Борец за народовластие».
Заметив, что его сообщения обескуражили Космаса, Исидор снова впал в отчаяние.
— Стало быть, Исидор, ты знал, что склад перешел в руки организации, но держал это в тайне?
— Вот-вот! Именно так!
— Послушай, дело это серьезное. Тебе нельзя сидеть сложа руки.
— А что ты мне советуешь, Космас?
— Понятия не имею. Но сидеть и бездействовать нельзя. Нужно принимать меры.
— Какие меры? — Исидор снова принялся расхаживать. Бутылка раки уже опустела.
— Знаешь что, Исидор? А не бежать ли тебе к партизанам?
Если бы в эту минуту в комнату ввалились немцы, Исидор не был бы так напуган.
— Ты с ума спятил!
— Почему?
— Да ты в своем уме? Разве я для этого гожусь?
— Что значит «гожусь»? Если ты останешься здесь, погибнешь. А там у тебя есть шанс спастись.
— Ничего подобного! — крикнул Исидор. — Совсем наоборот! Если я останусь здесь, то спасусь. Ну, потеряю магазин, да провались он сквозь землю, но больше они со мной ничего не сделают. А если пойду к партизанам, погибну.
— Почему погибнешь?
— Да какие сейчас партизаны? Выдумка все это. Собрались в горах пять беспортошных и думают, что немцы принимают их всерьез. Да немцы нарочно оставляют их в покое! «Пусть, говорят, соберется побольше, а там мы одним махом накроем всю шайку».
— Ну, тогда не знаю, Исидор, решай сам.
— А чего тут решать? Я пойду и во всем сознаюсь. Что они мне могут сделать? Магазин заберут — ну, и бог с ним…
До утра он тысячу раз менял свое решение. То говорил, что никуда не пойдет, а будет прятаться, пока о нем не забудут. То снова приходил в уныние: раз Анастасис поставил целью его уничтожить, он его в покое не оставит, поэтому лучше всего прямо отправиться к немцам и во всем чистосердечно признаться. Немцы это оценят и отпустят его. А если не отпустят? Что же все-таки делать? На заре Исидор попрощался с Космасом, забрал чемоданчик и сказал, что вечером, возможно, вернется. На лестнице он остановился, снова вошел в комнату, обнял и поцеловал Космаса.
— Последний раз мы видимся, Космас!
— Да что ты…
В глазах Исидора стояли слезы. Он подхватил чемоданчик и бегом пустился по ступенькам.
* * *
В магазине Анастасис разыгрывал безутешную печаль:
— И чего он только полез в это дело, чудак этакий? И чего ему понадобилось спутаться с подпольщиками?
Анастасису никто не отвечал. Он сновал туда-сюда и все старался перевести разговор на Исидора. Молчание окружающих выводило его из себя.
— Ну вот, ты свидетель, Космас, сколько раз я говорил этому чудаку: «Исидор, золотце, сиди себе смирно!» Так нет же, ему все неймется! То у него язык чешется и он мелет черт те что, то читает бумажонки, которые ему подсовывают разные бродяги. А тут еще этот его дружок Феодосис. В хорошее дельце его втравил. Да разве он меня слушал?
— Но кто, сынок, кто, кроме нас, знал, что он сдает этот проклятый склад? — прервал его разглагольствования Манолакис.
Тут Анастасис не выдержал:
— Ты, вот кто это знал! Кто, кроме тебя, способен на такую подлость? Космас или я?.. Слышишь, Космас, этот мерзавец шпионами нас считает! — И он схватил Манолакиса за шею.
— Оставь старика в покое, — сказал Космас.
— Да ты что, не слышал, что он говорит, Космас? Шпионами нас представляет, сволочь! Ты что, не слышал?!
— Слышал.
* * *
Вечером пришла Мари с обвязанным лицом. Глаза у нее были заплаканы. Исидора посадили! Мари рассказала, как было дело.
Исидор на заре вернулся домой, поднял ее с постели, и они вместе пошли в комендатуру. Немцы понятия не имели об этом деле и послали их в гестапо. Они отправились в гестапо. Там им сообщили, что всей этой историей ведает спецохранка. В спецохранке они около часу ждали офицера. Он пришел, посадил Исидора в крытый грузовик и отправил его в тюрьму Хаджикоста.
Мари плелась за машиной пешком.
XV
О судьбе Криса позаботились эамовцы. Он прожил несколько дней у Андрикоса, потом за ним приехали на машине и увезли.
В день отъезда Крис устроил скандал. Он во что бы то ни стало хотел ехать с Космасом и поносил организацию за то, что она его не отпускает.
С Тенисом Космас теперь встречался регулярно в кафе на улице Академии.
Как-то вечером Тенис привел в комнату Космаса гостя. Это был крепко сбитый парень лет двадцати. Видно было, что Тенис очень нервничает. Он целый час допрашивал Космаса, кто живет наверху, ходят ли жильцы по железной лестнице, навещает ли кто-нибудь Космаса, куда будет прятаться товарищ, если кто-нибудь постучит, и нельзя ли на скорую руку соорудить какой-нибудь тайник.
По поведению Тениса Космас понял, что этот парень важная персона. Никто не должен знать о его присутствии. Организация оказывает Космасу большое доверие, посылая к нему этого товарища, и он должен быть достойным этого доверия. Короче говоря, Тенис совсем запугал его. Даже скрывая англичанина, Космас не волновался так сильно, как сейчас.
Между тем, как только Тенис ушел, гость улегся на кровать и захрапел, как богатырь. Рядом с собой он положил немецкий парабеллум, две полные коробки патронов и две английские гранаты системы «Мильс». Он спал в одежде — в новеньком сером костюме и белой рубашке, оттенявшей загорелую шею. Комната дрожала от храпа, и Космас пробовал перевернуть гостя, надеясь, что хоть это подействует: он боялся, что на шум сбежится все семейство Кацотакисов.
Космас нарезал хлеб, разогрел на примусе бланку консервов и собрался уже разбудить гостя, когда тот вдруг вскочил с кровати и заорал благим матом:
— Назад!
Его рука взлетела и с размаху грохнулась об стенку. Космас растерялся. Он подбежал к гостю и схватил его за плечи.
— В чем дело, товарищ? Что с тобой?
Гость приоткрыл глаза, подул на ушибленную руку и поднял взгляд на Космаса.
— Черт возьми! — сказал он и сел на кровати. — Приснилось, что мой взвод окружен!
Он зевнул, еще раз посмотрел на Космаса — его взгляд упал на хлеб и консервы.
— Поужинаем? Признаться, у меня живот подвело от голода.
Он энергично встал и подошел к столу.
— Черт возьми! Целых трое суток не спал, вот и свалился как убитый. А тут еще этот проклятый сон!
И он накинулся на еду, продолжая говорить с набитым ртом:
— Позавчера вечером мы добрались до Парнаса и нарвались на немецкую заставу. Я разделил свой взвод на две части и шел с первой группой. И вдруг сторожевой пост. Хорошо, что они нас не заметили, и мы задом-задом — и через лес. Вот это я и видел сейчас во сне. Но только во сне все было по-другому. Они сидели в засаде и открыли огонь. Я укрылся за большущим камнем. И вдруг прямо передо мной появляются два огромных немца с автоматами! И говорят мне по-гречески: «Ни с места, Керавнос, пришел твой конец!» Тьфу ты, черт!
И он снова подышал на руку. От хлеба и консервов не осталось ни крошки. Космас положил перед гостем еще полбатона и кусок сыра.
— Я тебя разорю сегодня, — сказал Керавнос и, не разламывая хлеб, стал жадно есть. — Почти год не ел пшеничного хлеба. Нас уже тошнило от кукурузного.
И вообще с продовольствием у нас неважно. Хорошо, коли есть вареная фасоль и бобота. Питаемся, можно сказать, одним чистым воздухом.
Космас не открывал рта, зато парень говорил без устали.
— Если бы нам не помогали крестьяне, мы бы и вовсе пропали. Англичане не держат своего слова. Каждый вечер обещают, что сбросят продовольствие с самолета. Мы, как дураки, разводим костры и ждем, когда рак свистнет. Еще обещали, что сбросят оружие и обувь. Все одни слова. Один только раз, в Гионе, нам сбросили солдатские ботинки. Так все были на левую ногу. Ну, да ладно, плевали мы на них… Благодаря немцам у нас все есть — и оружие, и одежда: все, что носим, у них отбираем.
Хлеб и сыр исчезли так же быстро, как консервы. В шкафу не осталось ни крошки. Неравное покосился на Космаса, а затем бросил красноречивый взгляд на свою пустую тарелку.
— Не сердись, — сказал Космас, — я ведь тебя не ждал, так что тебе придется поголодать.
— Ничего! В горах и не такое терпели. А закурить есть?
Космас протянул ему сигареты. Керавнос закурил и снова лег на кровать.
— И не помню даже, когда в последний раз спал на кровати. Не обессудь, если я тебе оставлю парочку боевых подруг.
Космас не понял грозного предупреждения и стал убирать со стола. Но не успел он закончить уборку, как наверху, у Кацотакисов, послышался шум. Было уже за двенадцать. К этому времени, даже если в доме бывали гости, все обычно расходились.
Шум наверху усиливался. Послышались топот, крики, потом женские голоса.
— Давай потушим свет, — сказал Космас. — А еще лучше — забирай-ка свой пистолет и гранаты и полезай в шкаф.
Керавнос взял пистолет и гранаты.
— Ты лучше сам к ним сходи, — посоветовал он Космасу, — а то они явятся к нам.
Космас погасил свет. Между тем шум сменился дикими воплями, потом донеслись женский плач и сердитые мужские голоса. Космас уже собирался открыть дверь, когда его осенила мысль: «А вдруг это немцы?»
— Мы погибли! — сказал он Керавносу. — Наверно, это немцы.
Керавнос подошел, фыркая, как разгневанный конь.
— Ну, держись, паренек, — тихо сказал он Космасу, — будем стоять насмерть! Ты думаешь, они спустятся?
— Почем я знаю!
— Кто живет наверху?
Космас объяснил.
— А может, это потасовка из-за твоей соседки? Она небось красивая?
— Красивая, Керавнос. По ней все здесь с ума сходят… Но только вряд ли, такого содома здесь никогда еще не было.
— А может быть, они проведали о нас и донесли?
— Не может быть! Когда они могли успеть? Некоторое время оба молчали.
— Эх, дьявол! — внезапно возмутился Керавнос. — Попался в мышеловку! Пройти через горы и влипнуть тут, как идиоту! Ты думаешь, они придут?
— Откуда мне знать!
— Пусть приходят! И сами погибнем, но их тоже не пощадим, без боя не сдадимся. Дверь запер?
— Запер.
— Не отпирай ни в коем случае. Через окно можно сюда проникнуть?
— Нет, нельзя.
— Порядок! У меня тридцать патронов и две гранаты. Пятьдесят человек заплатят за жизнь Керавноса. Мы еще посмотрим, кто кого!..
Над ними была нежилая комната, которой Кацотакисы не пользовались. Космаса очень удивило, что шум идет оттуда.
Керавнос стоял у окна с пистолетом в руке. У ног он положил гранаты. То и дело он спрашивал Космаса: широкая ли лестница, могут ли по ней подняться несколько человек сразу, есть ли другой ход, куда выходят соседние комнаты?
Шум начал стихать. Космас хорошо знал внутреннее расположение квартиры. Он пытался представить себе, какие передвижения происходят наверху, и говорил об этом Керавносу. Потом послышался топот на парадной лестнице.
Парадная дверь открылась, голоса раздавались уже на улице. Кто-то быстро спустился по лестнице, дом снова погрузился в тишину.
— Что там произошло? — спросил Керавнос. — Ты понимаешь?
— Понятия не имею!
Керавнос оставил свой пост и положил пистолет на стол.
— Хорошо хоть, что не погибли ни за что ни про что.
В коридоре послышались быстрые шаги и голос госпожи Георгии:
— Космас! Ты дома?
Космас стоял в нерешительности.
— Иди к ней, — сказал Керавнос.
Потом раздался голос старика Кацотакиса — он, вероятно, стоял на верхней ступеньке лестницы.
— Космас, ты слышишь?
Космас быстро взбежал по лестнице.
— Что случилось, господин Андреас?
На кухне собралась вся семья.
— Ах, дорогой мой! — вздохнула госпожа Георгия. — Что теперь будут говорить про нас?!
— Да что могут про нас сказать? — сердился Кацотакис. — Что могут сказать?!
Кити была в ночной рубашке.
— Вот тебе и приключеньице! — повторял Джери.
— Да что произошло?
— В этих двух комнатах, — начал Джери, давая понять, что в этой истории лишь он сохранял хладнокровие, — мы, Космас, скрывали одну еврейскую семью — мать, отца, двух ребятишек и бабушку.
Космас был поражен. Однажды он видел на лестнице двух красивых мальчиков, занятых игрой. Он окликнул их, но они испуганно шмыгнули в кухню. Космас несколько раз собирался спросить госпожу Георгию об этих мальчиках, но все время забывал.
— Посмотрел бы ты, Космас, какой тут был немец! Ну и тип! Эрих фон Штрохайм!
Но едва он заметил Кити, как сразу сбавил тон.
— Вечно ты со своими глупостями! — сказала Кити и вышла.
* * *
Керавнос с нетерпением ждал вестей.
— Сказать тебе, что я думаю? — спросил он, выслушав Космаса. — Дело пахнет доносом.
— Почему?
— Немцы пришли, все зная наперед. Обыска они не делали. Прямиком направились в те комнаты.
Когда они ложились спать, Керавнос сказал:
— А ты великий конспиратор, Космас! Про соседку мне не сказал ни слова.
— А зачем?
— Говоришь, с ума свела всю округу. И уж будто ты, тихоня, не забрасываешь удочку?
— Давай-ка спать…
— Нет, ты скажи.
— Ну, скажу: ничего я не забрасываю.
— Ничегошеньки?
— Ничего.
— А почему? Разве она дурнушка?
— Красивая, говорят тебе. А сегодня, Керавнос, она была в одной рубашке.
— Эх, чертовка!
— Очень красивая!
— Ну, а тогда чего ж ты сидишь и ждешь у моря погоды! Что из того, что она не наша? А как ее зовут?
— Кити.
— А! — разочарованно протянул Керавнос. — Жаль!
— Почему, Керавнос?
— Имя мне не нравится. Вот если б ее звали Васо…
— Ну ладно, Керавнос, давай спать.
— Ну ладно!
Они оба долго ворочались. В тот момент, когда веки Космаса уже начинали тяжелеть, он услышал оклик:
— Космас! Эй, Космас!
Он не ответил. Керавнос встал, схватился за диван Космаса и с силой качнул его.
— Эй, Космас!
— Ну, что тебе опять!
— Не могу заснуть. Скажи что-нибудь.
— Что тебе сказать?
— Какая она из себя?
— Кто?
— Как кто? Твоя соседка!
— Да ты дашь мне, в конце концов, спать, Керавнос?
— Ну ладно.
Он пошел на свое место и лег.
— Космас! А завтра я останусь здесь?
— Да.
— На весь день?
— До вечера, пока не стемнеет.
— Как ты думаешь, увижу я ее?
— Смотри, не выкидывай никаких фокусов, Керавнос. Нарвешься на беду.
— Эх, и тебя, беднягу, заела конспирация!..
* * *
Керавнос ушел на другой день вечером. Космас проводил его до кафе, где их ждали Тенис и еще один товарищ, который и увел с собой Керавноса.
Космас рассказал Тенису ночную историю.
— И как они только не спустились к нам! — говорил он. — Схватили бы нас с поличным. Шутка ли — партизан из ЭЛАС{[48]}.
— Как так партизан из ЭЛАС? — переспросил Тенис. — Откуда ты знаешь?
— Откуда мне знать? Он сам сказал.
Тенис обиженно вздохнул.
— А ты не должен был его спрашивать!
— Да я и не спрашивал!
Тенис не ответил. Он молча вынул из спичечной коробки скатанную трубочкой бумажку, низко наклонился к Космасу и сказал тихо и строго:
— Товарищ Космас, возьми и выучи наизусть. В следующий раз я проверю.
В тот же вечер Космас взялся за дело. На тоненькой бумажке, густо усеянной буковками величиной с игольное ушко, стояло заглавие: «Двенадцать заповедей конспиратора».
«1) Не спрашивай о том, что не имеет к тебе непосредственного отношения…»
В тот вечер Космас не пошел дальше первого пункта. Едва он лег на кровать, как все его тело начало зудеть.
Он поднял простыню. В глазах у него потемнело — под одеялом кишмя кишели «боевые подруги» Керавноса…
XVI
На другой день вся округа только и говорила, что об аресте евреев. Ходили слухи, что их выдали сами Кацотакисы.
Больше всего негодовал торговец сыром Бевас, завсегдатай вечеринок Кацотакиса и поклонник Кити. Он кричал, будто с самого первого дня знал, что у Кацотакисов скрываются евреи: однажды он встретился на лестнице с отцом этой семьи, которого знал еще по Салоникам. Еврей, по словам Беваса, был крупным оптовым купцом и имел тьму-тьмущую денег. Он хотел войти в компанию с Бевасом, и в эти дни между ними шел торг. Еврей предлагал ему пятьсот золотых.
— А куда делись золотые? — спрашивал Бевас. — Он держал их при себе. Куда они могли деваться? — вопрошал Бевас, в магазине которого собирались теперь все противники Кацотакиса, — Евреев предали, чтобы заграбастать золотые. Теперь я запер дверь своего магазина на сорок замков. Вечера, на которые нас заманивали, как безмозглых баранов, и общипывали, как глупых кур, кончились. Хитроумная Пенелопа не могла вечно водить нас за нос. На что же им было жить? Только и оставалось прибрать к рукам еврейские деньги.
Бевас торжествовал, но ему мало кто верил. Все знали, какое жестокое соперничество было между торговцем сыром и господином Карацописом из-за прекрасной Кити. И еще все знали, что симпатии семьи были на стороне бывшего мэра и Бевас потерпел крах. Но самым удивительным было то, что господин Карацопис негодовал еще больше, чем сам Бевас.
— Уж мне-то есть что вам сообщить, — разглагольствовал Карацопис в кафе перед многочисленными слушателями. — Уж я-то кое-что знаю. Несчастные евреи пали жертвой грязной махинации.
Аудитория с нетерпением ждала доказательств. Бывший мэр обвел взглядом всех собравшихся, поднес к губам чашку кофе и сделал своим слушателям знак немного потерпеть.
— Я буду очень краток, — заявил Карацопис, отхлебнув кофе. — Вы, наверное, знаете, что семья Кацотакиса имела насчет моей персоны определенные намерения. Так вот… Кацотакисы, между прочим, сообщили мне, что приданое невесты составит пятьсот золотых. Это и есть сребреники предательства.
Новый свет на это дело пролил помещик. Он говорил, что Бевас и Карацопис слегка преувеличивают, чтобы отомстить за отказ, который оба они получили от этой хитрой кокетки. Она не хотела выходить замуж ни за того, ни за другого и начала строить глазки ему, помещику. Но пятьсот золотых действительно не выдумка. Кадетакис предлагал их ему при условии, что он примет Джери в свою сырную компанию.
На другой день прошел слух, что немецкий офицер, арестовавший евреев, снова являлся с обыском. Он, наверное, искал деньги, но ничего не нашел, потому что несколько часов спустя старика Кацотакиса вызвали в гестапо. На другой день его вызвали снова. На этот раз старик пошел в гестапо в сопровождении дочери.
* * *
Космас возвращался из кафе на улице Академии. Тенис не пришел. Это случилось в первый раз за все время.
Космас спускался по улице Фемистокла. Вдруг его окликнули:
— Эй, Космас!
Он обернулся. От дверей таверны к нему спешил высокий мужчина с усиками.
— Куда мчишься?
Это был Зойопулос. Он схватил Космаса за руку и потащил за собой.
— Не знаю, чем мы тебя прогневали, только ты совсем нас забыл. — Зойопулос погрозил ему пальцем. — Но сегодня этот фокус у тебя не пройдет. Я тебя арестую.
Космас попытался отказаться, но Зойопулос был неумолим.
— Идем, идем, блудный сын! Зойопулос затащил его в таверну.
За столиком, к которому они подошли, спиной к двери сидел какой-то мужчина.
— Садись и приготовься, — сказал Зойопулос. — Сейчас мы испытаем твою храбрость. Познакомься — Калорepac! — И, выждав немного, добавил: — Калогерас-старший!
Космас не мог скрыть страха, охватившего его при этом имени. Но Калогерас, даже не взглянув на Космаса, сжал его руку, словно клещами. Пальцы Космаса онемели от боли, но он сдержался и постарался что есть силы сдавить руку Калогераса. Тогда Калогерас поднял голову и взглянул на него в упор. У него были серые холодные глаза и светлые усики. На голове черная кепка. Резкий запах одеколона. Некоторое время Калогерас не сводил глаз с Космаса, потом налил в стакан вина.
— Садись. Чего стоишь?
— Садись, — повторил за ним Зойопулос. — Мы ждем Джери. Он должен вот-вот появиться.
— Мы знаем и Джери? — спросил Калогерас.
— Лучшие друзья! — ответил Зойопулос. — Да садись же, Космас.
— Простите, мне нужно идти.
— Нет! — Зойопулос силой усадил Космаса на стул. — Никуда ты не пойдешь!
— Как так не пойдет? — сказал Калогерас. — А если его на углу ждет какой-нибудь коммунист?
— За Космаса я ручаюсь! Уж ты не сомневайся. Об этом и речи быть не может.
— Вот как? А я бы не поручился. — И он снова поднял взгляд на Космаса. — Пей, чего ждешь?
В дверях показался Джери.
— Эй, ребята! — крикнул он издалека. — Чем вы тут занимаетесь? Что вы тут делаете, бродяги?
Увидев Космаса, он шумно обрадовался:
— Где вы его поймали? Ненес, это ты его разыскал? Я же целую вечность тебя не видел, Космас!
— Это мы ему еще попомним! — сказал Зойопулос. — Но на сегодня забудем свои обиды.
— Тем более, — вставил Джери, — что он еще не очухался после позавчерашнего шока.
— Что за шок?
— Да разве я не рассказывал тебе про эту историю с евреями?
— Какие еще евреи? Пей.
Зойопулос наполнил стакан Джери. Тот схватил его и одним духом выпил все вино до капли. Тут снова заговорил Калогерас:
— Ты спрашиваешь, что стряслось? Приютили у себя жидов, а потом выдали их немцам, чтобы прикарманить еврейские денежки.
— Аргирис!
— Ну что?
— Неужели ты тоже этому веришь?..
Калогерас посмотрел на него.
— Джери, детка, — улыбнулся он, — сперва утри нос, а потом уже заправляй мне арапа.
— Ну-ну! — захохотал Зойопулос. — Куш хоть большой отхватил, Джери?
— Пятьсот золотых! — ответил Калогерас.
— И ты держишь это в секрете от нас? Стыд и позор!
— Да что вы, ребята… Космас, ну, хоть ты им объясни, расскажи, в чем дело.
— Ну что может рассказать Космас? — покачал головой Калогерас. — Он в это время малевал лозунги на стенах вместе со своими друзьями коммунистами.
— Нет, ты несносен, Аргирис! Для каждого у тебя найдется обвинение. А о себе ты нам, однако, не рассказываешь. Расскажи-ка лучше про свой вчерашний подвиг!
— Какой подвиг? — спросил Зойопулос. — Да вы что, в самом-то деле? Секреты от меня? Что ты там натворил, Аргирис?
Калогерас опорожнил свой стакан.
— Хм! Вся эта история — и смех, и слезы.
— Да что произошло?
— Шли мы вчера с Коскинасом-младшим, с Черным. Подвыпили малость и поглядывали, на ком бы отвести душу. Вдруг внизу, за площадью, видим, ребята, какую-то тень — человек бежит. «Хальт! — кричим. — Стрелять будем!» Не останавливается. Стреляет Черный — мимо! «Валяй, говорит, ты, Аргирис. Один раз — ты, другой — я». Стреляю — падает! С первой пули. «Идем, — говорит Коскинас, — посмотрим, в кого попал». Подходим к трупу, ребята, и что же видим?..
— Что?
— Коскинас наклоняется и говорит: «Эй, Аргирис, да это же моя сестра!»
— Чья сестра? — не понял Зойопулос.
— Черного, Коскинаса-младшего.
— Так… это и вправду была его сестра?
— Его, черт возьми!
— А потом?
— А потом закатились мы по соседству в гости к одному коммунисту, водителю трамвая, прирезали его самого, и его половину, и его паршивое отродье, двух сорванцов, которые не сегодня-завтра тоже стали бы малевать лозунги.
Наступило тягостное молчание. Калогерас налил себе вина.
— А ты так и не выпил, Космас, — сказал он. Космас все еще не мог прийти в себя.
— Ну, пей!
Винный перегар и запах табака ударили Космасу в лицо. Калогерас смотрел на него зверем. Дело начинало принимать дурной оборот.
— Да, я не сказал тебе, Аргирис, — вмешался Джери, — Космас у нас поэт. Так что для его чувствительной натуры…
— Поэт! — прорычал Калогерас с омерзением. — Если б все были поэтами, мир давно превратился бы в коммуну!
— Аргирис! Кореш! — окликнули Калогераса с углового столика, за которым сидели двое мужчин и развязные девицы. Калогерас недоуменно уставился на кричащего. — Эй, Аргирис! Я Гаруфалос!
Аргирис вкочил.
— Гаруфалос!
Они обнялись.
— Я ухожу! — сказал Космас, поднимаясь из-за столика.
— Не советую, Космас, — остановил его Зойопулос. — Он на тебя рассердился. И если он вернется и увидит, что ты ушел…
Космас молча пошел к двери. Джери побежал за ним, хватая его за рукав.
— Оставь меня, — сказал Космас. — Прошу тебя, оставь меня в покое…
Они шли по улице.
— Ну, Космас, ну с чего это ты вдруг?
— О чем ты спрашиваешь?!
Космас почти бежал, но Джери не отставал. У немецкого бара Джери схватил Космаса за руку.
— Ну, постой же минуточку, скверный мальчишка! Это недоразумение. И, ей-богу, мы должны его ликвидировать. Поговорим как мужчина с мужчиной… — Его покрытая пушком губа дрожала.
— Какие же мы мужчины?
— То есть как?
— Ты сам сказал — мальчишки.
— Ах ты плут этакий! Здорово меня поддел!
Он деланно захохотал, закружился на месте, держась за живот, чтобы «не лопнуть», и выкрикивал сквозь смех, что Космас плут, здорово его поддел и что он, Джери, это признает.
— Раз ты признаешь это, — сказал ему Космас, — ты должен еще признать, что этот громила Калогерас преступник и что…
— Да, Космас, золотце, но ты одного не принимаешь в расчет. Мы ведем войну. Сейчас даже поэты должны сражаться, и не стихом, а винтовкой. А эти… ну, эти типы… видишь ли… они неизбежное зло… Неизбежное потому, что существует другое, более страшное зло, с которым мы должны бороться, и еще…
Он пошевелил пальцами, как бы пытаясь поймать в вечернем воздухе нужное слово.
— Что это за другое зло, Джери?
— Мы ведем войну и на внешнем, и на внутреннем фронте…
— Не понимаю.
— Да ты послушай. Главное сейчас — внутренняя проблема. — Джери говорил медленно и значительно. — А раз так, то мы должны выбирать: или мы, или они!
— Кто мы и кто они?
— Ну, знаешь, мы — нация со всеми ее традициями, с ее многовековой историей. Как бы это получше выразить…
Он снова стал искать подходящее слово, но тут из бара его окликнули:
— Джери!
Это была Кити. В светлом демисезонном пальто, в шляпке и так сильно накрашенная, что Космас не сразу узнал ее.
— Ребята! Идите со мной, мой кавалер пьян в стельку.
В эту минуту на улицу вывалился ее спутник. Джери подбежал к нему с бурными приветствиями:
— О, Herr Major! Es freut mich Sie zu sehen! Esfreut mich sehr! (О, господин майор! Очень рад вас видеть. Очень рад!)
Майор очень удивился:
— Hm! Was sehe ich? Verschwörung? Verschwörung? (Ба, что я вижу? Заговор? Заговор?)
— Nein, nein! Ich bin hier zufällig. Und werm Sie Kiti nach Hause begleiten werden, ich wenn Sie nichts dagegen haben… (Нет, нет! Я оказался здесь случайно. И если вы собираетесь проводить Кити, то я, если вы не против…)
— Aber warum? Warum? Wollen wir zusammen fahren… Ich bitte Sie, nehmen Sie Platz (Но почему? Почему? Поедем вместе! Прошу вас, садитесь!)
Кити села в машину. Майор обошел кругом, чтобы сесть за руль.
— Садись, Космас, — сказал Джери.
— Ты смеешься!
— Садись, говорят тебе, это такой потешный тип! Много потеряешь, если не поедешь, — ведь это Эрих фон Штрохайм!
Кити выглянула из машины:
— Поторапливайтесь, ребята!
— Садись, Космас!
— Я не поеду.
— Да ты сам не знаешь, от чего отказываешься! Он влюблен по уши, и Кити делает с ним что угодно. Презанятный тип! Стоит поехать хотя бы из любопытства…
Джери открыл дверцу и вошел. В эту секунду «тип» включил мотор.
XVII
На следующее свидание Тенис опять не пришел. А меж тем эти дни были для Космаса очень тяжелыми.
Исидор распорядился, чтобы Мари замещала его в магазине. И она каждый день приходила туда. Сначала все избегали Анастасиса, и он, ощущая общее недоброжелательство, сделался кротким и лез из кожи, чтобы угодить Мари. Он понимал, что Мари в любой момент может выгнать его из магазина, и чувствовал себя как на раскаленных угольях. Отводил душу он по-прежнему на Манолакисе: ни на минуту не оставлял старика в покое, без устали подгонял и шпынял его.
Но время шло, и Анастасис понемногу оправился. Мари должна была раз в два дня навещать Исидора, и тогда Анастасис заменял хозяйку. Исидор боялся окончательно порвать с ним, он знал — Анастасис пойдет на все, чтобы его уничтожить. И, чтобы подольститься к Анастасису, Исидор попросил Мари увеличить проценты, которые Анастасис получал с доходов магазина. Анастасис сделал великодушный жест и отказался. А между тем исподволь стал уговаривать Мари перестроить торговлю и перейти с изюма на масло и нефтепродукты. Это был очень хитрый план. Сам Анастасис хорошо понимал в этих товарах, а Исидор так же, как и остальные работники магазина, в масле ничего не смыслил. Рассчитывал Анастасис и на помощь своих шуринов — Калогерасов: один из них промышлял нефтью. А если бы в магазин втерлись Калогерасы, никакая сила уже не выгнала бы их оттуда.
Мари не знала, что ей предпринять. В магазине начали появляться бочки с маслом. Анастасис распределил обязанности: изюмом ведает Мари, маслом — Анастасис. Он был уверен, что через несколько дней Мари сдастся.
Первым из работников магазина оказался под угрозой увольнения Манолакис. В магазине появился Мемос — отставной жандарм. Анастасис прочил его в преемники Манолакиса.
Манолакис почуял опасность. Сначала он надеялся, что Анастасис будет разоблачен. Поэтому он не слушался его, открыто выказывал ему свою ненависть и как-то раз даже обозвал иудой. Но, убедившись в том, что Анастасис постепенно захватывает бразды правления в свои руки, Манолакис изменил тактику. Он начал шептаться с ним по углам, наушничать, передавать все, что происходит в магазине.
Однако замыслы Анастасиса не осуществились. События одного дня перевернули все вверх дном.
Однажды утром в магазин, задыхаясь, ворвался грузчик Андреас. В руках у него была газета.
— Эй, вы! — крикнул Андреас. — Читали?
Анастасис, переливавший вместе с Мемосом масло из ведра в бак, отбросил воронку и накинулся на Андреаса:
— Пошел, пошел отсюда! Сколько раз я тебя предупреждал — не таскай к нам газеты!
— Убери лапы! — крикнул Андреас. — Любуйся на дело рук своих, иуда! Исидора расстреляли!
— Как? Что?..
Космас схватил газету. На первой странице крупными буквами было напечатано:
«РАССТРЕЛ КОММУНИСТОВ
Сообщение
Вчера около Пиргоса коммунистическая банда предприняла вылазку и убила немецкого сержанта и греческого жандарма. Несколько немецких солдат и греческих жандармов ранено. В ответ на это злодеяние сегодня расстреляны двадцать пять коммунистов…»
Имена расстрелянных были напечатаны крупным шрифтом в два столбца. Пятым стояло имя Исидора.
Когда Космас произнес его фамилию, послышался сдавленный крик: Мари, прихода которой никто не заметил, в обмороке свалилась на весы. Космас брызнул в лицо Мари водой. Анастасис пожелтел, как воск. Перед магазином собрался народ.
Мари открыла глаза. Она обвела взглядом магазин, увидела людей, залилась слезами и запричитала. Женщины принялись ее утешать. Внезапно слезы и причитания стихли. Маленькие глазки Мари снова обшарили магазин — это был взгляд зверя, ищущего свою жертву. Опершись о стол, Анастасис следил за Мари глазами, полными ужаса. Мари подскочила и, как кошка, вцепилась в него. Она схватила Анастасиса за волосы и в ярости стала кусать и царапать его. Сначала Анастасис даже не пытался сопротивляться, так он был ошеломлен. Но потом схватил Мари за плечи и попытался оторвать ее от себя. Мемос поспешил ему на выручку.
— Да она с ума сошла! — кричал Анастасис. — Вы что, не видите? Она обезумела!
Но справиться с Мари было не так-то легко. В драку вмешались женщины. Они оттолкнули Мемоса и бросили его на ведра. Наконец Анастасису удалось освободиться. Он отшвырнул Мари прямо на руки Космаса. Она пыталась снова броситься на Анастасиса, но ее схватили под руки и повели к выходу.
— Люди добрые! — кричала Мари. — Чего вы смотрите на убийцу?
— Она спятила! — взвыл Анастасис. — Она рехнулась!
Он затравленно огляделся.
— За что она меня? Что я ей сделал?
Его глаза остановились на Космасе.
— Космас, ты все знаешь, скажи им.
Космас смотрел на него с отвращением.
— Подлый доносчик!
— Не верьте ему! — завопил Анастасис. — Пусть скажет Манолакис. Говори, Манолакис!
Но Манолакис забился в угол.
— Скажи, Манолакис, ведь он читал тебе прокламации?.. — вопил Анастасис. — Говори же, что ты молчишь!
— Этим ты и погубил Исидора! — крикнул Космас.
— Я тебе это попомню, Космас! — Анастасис задыхался от ярости. — Меня не боишься — вспомни про Калогерасов!
Тут Мемос схватил гирю и бросился на Космаса. Но Андреас перехватил его и с размаху ударил кулаком по лицу. Гиря покатилась по полу. Мемос свалился на мешки. В магазин входили все новые и новые люди. Космас видел, как Анастасиса прижали к стене и как Андреас, сидя верхом на Мемосе, колотил его кулаками.
С улицы крикнули: «Немцы!» Начался переполох. Кто-то дернул Космаса за рукав и шепнул на ухо:
— Беги!
* * *
До самого вечера Космас так и не решился приблизиться к своему дому. После обеда он зашел к Феодосису и узнал от него последние новости.
В полдень на Анастасиса, направлявшегося домой, напали двое из ОПЛА{[49]} и стреляли в него. Одна пуля попала в спину, другая скользнула по голове. Шурины Анастасиса Калогерасы в отместку решили зарезать Мари. Как только они узнали, что Анастасиса ранили, они сразу отправились в дом Исидора. Мари собиралась идти в тюрьму за телом. Калогерасы зарезали ее на лестнице. Соседка, которая была с нею, бросилась бежать. Ей выстрелили в спину.
Космас понял, что должен действовать.
Ночью он тайком пробрался в свою комнату и забрал вещи, он решил снова поселиться у Андрикоса.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
…Здесь, в этом городе, меня священное волнение коснулось.
Kостис Паламас
I
Совсем уже потеряв надежду на встречу с Тенисом, Космас все же каждый день заглядывал в кафе на улице Академии. Хозяин кафе, усатый коротышка, приметил Космаса и, едва тот входил, бежал к нему с подносом в руке. Однажды, подав кофе, хозяин попробовал завязать разговор. Для начала он пожаловался на ревматизм, потом перешел на климат и наконец спросил, здоровый ли климат в тех местах, откуда приехал Космас. Космас разгадал его маневр и ответил, что для здорового человека любой климат хорош.
— Верно! — согласился хозяин. — Но все-таки есть места… — И, отбросив иносказания, пошел напрямик: — А откуда ты, парень?
— Из Илии.
— Я так и думал. Земляк! И давно приехал?
— Около года.
— Торговые дела, надо полагать?
— Ну что ты!
— Значит, какие-нибудь неприятности?
Хозяин вздохнул. Он нагнулся и опустил поднос на пол так проворно, будто у него и не было ревматизма. Потом вытащил портсигар, протянул Космасу, дал прикурить и снова глубоко вздохнул.
— Если не торговля, значит, какие-нибудь неприятности. Все мои земляки, что приезжают сюда, или торговцы, или беглецы. Угадал?
На что получил тот же ответ:
— Ну что ты!
— А скажи мне, — попросил хозяин, присаживаясь на стул, — скажи, где ты жил в Илии?
— А ты хорошо знаешь Илию?
— Как свои пять пальцев.
— Тогда ты должен знать и Кипариси.
— Что?
— Кипариси!
— Что за Кипариси?
— Да деревня.
— Как же, проезжал!
— А какое Кипариси ты знаешь — Верхнее или Нижнее?
Хозяин задумался. Он теребил ус, барабанил пальцами по столу и наконец сказал:
— Не помню, землячок. А сам-то ты из какого?
— Погоди, я тебе напомню! — остановил его Космас. — Ты говоришь, проезжал. А на чем ты проезжал? На поезде или на машине?
Хозяин забеспокоился. Он поднял поднос с пола, поставил его на стол и снова покрутил ус. Вдруг его осенило.
— Вспомнил, вспомнил! Я пешком проходил!
— Через большой мост?
— Вот-вот!
— Там, где много кипарисов?
— Точно.
— Ну, значит, ты проходил через Нижнее, — сказал Космас.
— Да, да! Вот именно!
— А я из Верхнего.
Хозяин засмеялся. Он взял поднос и встал.
— Ну и ловкач!
* * *
Однажды вечером в кафе к столику Космаса подошел мужчина с тавлеями в руках. Лет под тридцать, в очках.
— Сыграем? — спросил он Космаса.
И, не дожидаясь ответа, сел и положил тавлеи на край стола.
— Я не играю в тавлеи, — сказал Космас.
Незнакомец приоткрыл доску, наклонился и тихо сказал:
— А Тенис говорил, что играешь.
Космас рассмеялся. Когда в кафе собирались посторонние, Тенис обычно брал с полки тавлеи, подходил к Космасу и предлагал сыграть.
Сосед расставил шашки и бросил кость.
— Между нами говоря, я тоже не умею играть в тавлеи. Давай просто двигать шашки.
Его звали Телемах, он сказал, что послан Тенисом, который сейчас в отлучке. Последние слова были произнесены тоном, дававшим повод к размышлениям.
— Что это значит? — спросил Космас.
— Это значит, товарищ Космас, что Тенис был прав: ты плохой конспиратор, — резко сказал Телемах.
Он знал и об истории с англичанином, и о последних событиях в магазине Исидора.
— Имей в виду, Калогерасы занесли тебя в свои списки. Будь особенно осторожен. Теперь, когда их банду официально признали власти, тебе придется туго.
— Что значит «официально признали»?
— Из таких подлецов оккупационное правительство формирует батальоны асфалии{[50]}. Подчиняться они будут немцам, а использовать их будут в борьбе против партизанских отрядов и наших организаций. Кстати, оденут их как цольясов{[51]}.
— Не может быть!
— Почему не может быть? Ты думаешь, они посчитаются с национальными традициями? Они не считаются с целым народом! Долго ждать не придется, скоро ты увидишь их в Афинах во всем параде и с немецким маузером на боку.
— И все-таки я никак не могу представить себе эту мерзость…
— А чего тут представлять? — сказал Телемах. — Увидишь своими глазами. Они пойдут на это, у них нет другого выхода. Народ их ненавидит. И они не гнушаются никакими средствами.
Соседние столики были пусты, и они могли говорить свободно. Но Космас несколько раз перехватил взгляд хозяина.
— Этот хозяин, мне кажется, большой хитрец, — прервал Телемаха Космас, — Все время следит за нами.
— Не обращай внимания, — сказал Телемах. — Он действительно малость любопытен, но… человек хороший. — Потом улыбнулся и добавил: — Один у него недостаток… не довелось ему побывать в Верхнем Кипариси.
— Стало быть, вы испытывали меня?
— Нет, дело не в этом. Причина другая: наша организация понесла урон.
Космас не понял.
— Арестовали нескольких наших работников и в том числе Тениса.
— Тениса?
— Я хочу, чтобы ты знал об этом, когда будешь принимать решение, — серьезно продолжал Телемах. — Борьба чревата опасностями, она требует жертв. Врагов много, они безжалостны.
— Я это знаю, — сказал Космас. — Но решение мое твердо. Ни колебаний, ни сомнений у меня нет.
— Так, значит, «бури нас не пугают»? — пошутил Телемах.
— Буду откровенен. Не скрою, я тысячу раз предпочел бы родиться на несколько лет позже, в тот день, когда кончится война. Тогда, во всяком случае, можно было бы прожить жизнь как хочешь. Я с нетерпением ждал, когда окончу гимназию и поступлю в университет.
— Не думаешь ли ты, что война — моя стихия? — усмехнулся Телемах. — Если хочешь знать, то я по профессии учитель.
— Я тоже когда-то хотел стать учителем. Но потом мои планы изменились.
— А теперь тебе придется еще раз в корне изменить свои планы. Сейчас тебе, как и всем нам, придется стать солдатом.
— Социальной революции? — со смехом сказал Космас.
— Скажем проще: солдатом свободы.
Кафе опустело. Только за одним дальним столиком еще играли в преферанс.
Подошел хозяин с тряпкой в руке.
— Товарищ Георгис, — сказал Космасу Телемах, — и в самом деле твой земляк. И не только твой, но и мой, Я тоже из тех мест. И, как ты понимаешь, наша встреча не случайна. Организация поручает нам троим очень важную работу. В Афинах сейчас около миллиона людей из провинции. Каждая область должна иметь здесь свою организацию. Мы трое обязаны создать организацию пелопоннесцев.
— Не пелопоннесцев, а мораитов, — поправил Георгис.
— А какая разница? — засмеялся Телемах. Георгис объяснил:
— Был у меня один клиент, меховщик из Триполи. Если дела шли хорошо и его спрашивали, откуда он родом, он вытягивался в струнку и отвечал: «Пелопоннесец!» А если что-нибудь не клеилось, он приходил с опущенной головой и на вопрос: «Откуда, землячок?» — отвечал: «Из несчастного Морьяса»{[52]}.
Все трое рассмеялись.
— Ну вот, — сказал Телемах, — наладим работу и тогда сможем говорить, что мы пелопоннесцы.
II
Работа наладилась. Космас целыми днями колесил по городу. Он заходил в магазины, конторы и жилые дома. Карманы у него были набиты подпольной литературой. Так он нарушал одну из двенадцати заповедей Тениса, которая гласила: «Не носи с собой того, что может тебя выдать». И хотя Космас вызубрил заповеди наизусть, применять их на практике ему не удавалось. Однажды он чуть за это не поплатился.
Это произошло в ресторане «Триполис», куда он явился, как всегда, нагруженный подпольными газетами, сводками и талонами взаимопомощи. Все служащие ресторана — повара, официанты и хозяева — были членами организации. Секретарем у них был официант из Димицаны по кличке Никитарас. Космас обычно заходил в ресторан по четвергам, после обеда. Никитарас подбегал к нему за заказом, прятал под передник газеты и талоны, уходил и потом возвращался с сытной фасоладой{[53]} или макаронами с «подводным камнем» (так они называли спрятанный под ними кусок мяса). Около трех месяцев Космас и Никитарас работали слаженно, как часы.
В тот день Космас в обычное время сел за свой столик. Но не успел Никитарас подойти к нему, как ресторан окружили люди в штатском. Одни стали в дверях, другие с револьверами в руках вошли в зал. Полицейский в штатском остановился посредине зала и, не вынимая руки из карманов, попросил всех оставаться на своих местах и не волноваться.
Сразу же поднялась суматоха. Женщина с дочкой, сидевшая за соседним столиком, вскрикнула и едва не упала без чувств, увидев вооруженных людей.
— Прошу не волноваться, господа! — повторил полицейский. — Мы произведем обыск.
— Как это можно не волноваться! — возмутился лысый старичок с салфеткой, повязанной вокруг шеи. — Что за порядки теперь пошли — врываются в ресторан с револьверами в руках! Вы что, за разбойниками гоняетесь?
— Вот именно — за разбойниками! — ответил полицейский. — А вы, господин, не повышайте голос.
— А ты не указывай, что мне делать!
— Прекратите, или я арестую вас! — пригрозил полицейский и сделал знак продолжать обыск.
Полицейские рассыпались по залу. За столиком вместе с Космасом сидел смуглый мужчина лет тридцати с вытатуированными на руках якорями. Полицейский начал с него.
Между тем лысый старичок с салфеткой не успокоился. Угроза полицейского привела его в бешенство. Он нервно жестикулировал и все больше распалялся.
— Руки коротки арестовать меня! Впрочем, что удивительного, если все государство во власти хулиганов!
У полицейского лопнуло терпение.
— Арестуйте его! — приказал он своим подчиненным, Двое из них направились к столику старика.
— В каком ты чине? — кричал старик. — Ты не имеешь права арестовать меня! Я старше тебя по чину!
Полицейские отступили, а их начальник рассвирепел!
— Те, кому нужно, знают мой чин. Арестуйте его!
— Я генерал! И я тут приказываю…
Старик не успел закончить. В дверях произошло замешательство. Космас заметил, как один из полицейских упал, а какой-то парень в белой рубашке быстро проскочил в дверь.
— Убежал!
— За ним! Скорей!
Полицейские бросились к дверям. На улице послышались выстрелы. В ресторане снова поднялась суматоха, и, воспользовавшись этим, Никитарас подбежал к Космасу и взял у него бумаги. Но обыск не возобновился, опасность миновала.
Начальник все же вернулся в ресторан и в сопровождении двух полицейских подошел к старику.
— Я обязан препроводить вас в участок. Ваше имя?
— Генерал Кулакос. Я отказываюсь идти с тобой, пока ты не назовешь мне свой чин.
— А мне ваше согласие и не требуется! — И он схватил генерала за плечо.
В ресторан вошел полицейский с пачкой листовок в руках.
— Мы нашли их на улице, он обронил их на бегу. Начальник оставил генерала и взял листовки.
— Вот, читайте! — сказал он генералу. — По вашей вине от нас сбежал преступник!
Это были листовки, отпечатанные на гектографе, точь-в-точь такие, как у Космаса.
Генерал не торопясь вынул очки. Он прочитал листовку и отдал ее полицейскому.
— Кто знает, преступник это или патриот?
Полицейский снова протянул к нему руку.
— Не трогай меня! — сказал генерал, отстраняясь. — В эту руку мне угодил осколок итальянского снаряда.
Его увели. В последнюю минуту к генералу подскочил. Никитарас и снял с его шеи салфетку. Потом он пробежал мимо столика Космаса, размахивая подносом и выкрикивая заказ:
— Два раза фасоль!.. Макароны пустые!.. Последнее блюдо наверняка предназначалось для Космаса. Никитарас сказал «пустые», но Космас был уверен, что под горкой макарон повар положит «подводный камень» — солидный кусок мяса — и это мясо поможет ему продержаться до следующего четверга.
* * *
Бывал он и в более сложных переделках. Воскресным вечером Космас поднимался к Омонии. Немного не доходя до площади, он чуть не столкнулся лицом к лицу с Зойопулосом и двумя его спутниками. Космас стоял по одну сторону трамвайной линии, Зойопулос со спутниками — по другую. Трамвай уже приближался к остановке, когда Зойопулос увидел Космаса и показал на него своим друзьям. Подошедший трамвай разделил их, и Космас кинулся бежать. Добежав до перекрестка, он услышал топот, оглянулся и увидел, что все трое гонятся за ним.
— Стой! Будем стрелять! — закричал Зойопулос.
— Держите его!.. — вопили его друзья.
Прохожие в испуге бросились врассыпную. Зойопулос и его спутники открыли огонь, поднялась суматоха. Среди общего замешательства Космас шмыгнул в переулок на улице Патисион, толпа хлынула за ним, и, смешавшись с лавиной бегущих, он без особых приключений выбрался на улицу Стадиу.
* * *
Была у него и еще одна неожиданная встреча. В одном из книжных магазинов на площади Конституции он наткнулся на Аполлона. Космас попытался было скрыться, но Аполлон крепко схватил его за руку. Впрочем, вид у него был самый дружелюбный.
Они вышли из магазина и зашагали вдоль площади.
— Завидую тебе, — сказал Аполлон.
— Почему?
— Да потому, что ты нашел свой путь и можешь приносить пользу. Я узнал о тебе от Джери. Они из кожи вон лезут, как бы тебя изловить.
— А ты с ними?
— Как видишь, нет. Я тебе завидую.
— Не могу я тебя понять. Если ты мне завидуешь, то можешь идти со мной.
— Нет, не могу. Не могу сотрудничать с коммунистами, хотя понимаю, что без них борьба невозможна.
— Ну и что же?
— Не знаю. Я так привык ненавидеть их, что теперь не могу себя перебороть.
— А ты старался?
— Нет, не старался. Мне не нравится, что делают они. Так же, впрочем, как и то, что делают их противники.
— А что же делают их противники? Аполлон засмеялся.
— Говорят, что последовательно защищают интересы своего класса. Вооружились, получили немецкие пропуска и ходят в патруль. Мне говорили, что Зойопулос чуть тебя не убил.
— Да, он в меня стрелял. Но ты, Аполлон, так ни к кому и не присоединишься? Коммунистов ты ненавидишь, предателей осуждаешь, а сам будешь сидеть сложа руки?
— Знаешь, что я последнее время думаю? Вот возьму пистолет, выйду на улицу, перестреляю, сколько смогу, немцев, пока меня не схватят. Другого выхода я не вижу.
Потом спросил:
— Скажи откровенно: ты испугался, когда увидел меня в магазине?
— Испугался.
— Думал, что я тебя выдам?
— Да.
Аполлон огорчился:
— Скажи, Космас, неужели я похож на предателя?
— Я не говорил этого. Но…
— Не надо, не продолжай, я понимаю. И скажу тебе одно: ты молодец. Ты на сто голов выше меня. И я проникнусь к тебе еще большим уважением, если ты, сражаясь с немцами, не забудешь и другого врага — коммунистов. А что касается меня… Знаешь, Космас, почему мне сегодня особенно тяжело?
Космас вопросительно посмотрел на него.
— Знаешь, почему, Космас? — грустно повторил Аполлон. — Мой отец на днях вступил в ЭАМ.
III
В ночь под крещение улицы рано опустели. Весь день моросил дождь, воздух был насыщен сыростью.
В кафе Георгиса погасли последние огни. Из кафе вышли двое, недолго постояли, потом, миновав Академию, свернули в переулок. До них донеслись звуки аккордеона. Тенор запел старинную кантату. Ее подхватил хор голосов.
— Это они! — сказал один из двух. — Сколько их там собралось?
— Целая капелла!
— Я думаю, через час мы закончим.
— Да, часа нам хватит. Улица короткая. За церковью будет работать другая группа.
— Кто в ней?
— Не знаю.
До церкви два квартала. За час нужно написать лозунги на стенах всех домов, текст лозунгов утром принес в кафе Телемах. Космас и Георгис выучили их наизусть. Кисти они спрятали под пальто и обернули их газетами. Краски были заранее доставлены на место. Два эпонита{[54]}, разведав здесь все ходы и выходы, с наступлением темноты притащили жестяные банки с красками и спрятали их в укромном уголке.
Сегодня Космасу впервые поручили писать лозунги.
— Главное, чтоб рука не дрожала, — поучал его Георгис. — Буквы должны быть как куколки. Красивые и аккуратные. Ну и, конечно, писать надо без ошибок, а то нехорошо получится, если нас назовут невеждами. Не торопись и не суетись. Окуни кисть в краску, быстро вынимай ее, поверти в воздухе, чтоб не облиться, а потом валяй по стене, да так, чтоб руки только мелькали.
Между тем хор окончил кантату, аккордеон заиграл новую мелодию, и тотчас же вступил баритон:
Друзья, мы любим Вакха,
Ведь все мы удальцы…
— Слышишь? — сказал Георгис. — Это Фотис, парикмахер. Поет — словно кудри вьет, дьявол!
Космас засмеялся. Фотис возглавлял одну из троек. И связь с ним держал Космас. В последнее время Фотис все порывался посвятить Космаса в какой-то важный вопрос, но долго не решался. Наконец, когда они остались в парикмахерской с глазу на глаз, Фотис открылся: он собирался жениться и хотел посоветоваться об этом с руководством.
— Не нравится мне эта затея с хором, — сказал Космас Георгису. — От нее больше вреда, чем пользы. Ведь так мы сами извещаем о себе немцев!
— Нет, ты неправ. На том конце улицы живет одна наша девушка. Молодежь сейчас у нее во дворе и оттуда следит за улицей. Ты прислушайся к тому, что они поют. Если кантаты, значит, все спокойно. Если заведут «Дунайские волны», надо бежать. Вот тогда бросай кисти, краски и мчись… Но в такую ночь вряд ли сюда кто явится. Видишь, тьма какая стоит! Когда будешь писать, дай сперва глазу пообвыкнуть, потом определи размеры букв и смотри, чтобы места хватило, чтобы буквы были ровные, одна к одной. И не делай их слишком строгими: к одной хвостик приделай, к другой завитушку. Каллиграфия, брат, великое дело!
Он говорил о лозунгах так, будто разглагольствовал в кафе за стойкой о секретах своего кулинарного искусства.
— И не забудь, Космас, про восклицательные знаки. Лозунг без восклицательного знака все равно что человек без головы. Сделай его покрупнее, чтобы он сам за себя говорил и останавливал прохожих. Внизу ставь подпись — ЭАМ. Каждую букву пиши отдельно, но точками не разделяй.
— А не нарисовать ли снизу серп с молотом? — поддразнил его Космас.
— Ты этим не шути. Знаешь, какого маху я дал однажды? Написал лозунг, красиво написал, картина да и только: «Патриот, кто бы ты ни был, вступай в ЭАМ!» — а внизу — и что только на меня нашло? — здоровенный серп и молот. Ну, и поплатился, конечно, заработал строгий выговор с предупреждением.
Они подошли к своим. От хора отделились две девушки. Одну из них Космас знал: она работала на фабрике, месяц назад немцы убили ее брата.
Вслед за девушками подошел аккордеонист. Он объявил о небольшом изменении в программе. Если появятся немцы или асфалия, он будет играть не «Дунайские волны», а коляду:
Христа крестят сегодня
На святой реке…
— Хорошо, — сразу согласился Георгис. — Что ж, восславим господа, восславим его во имя нашего дела.
Работница ушла вместе с Георгисом. Другая, маленькая толстушка, сказала Космасу:
— Пойдем, товарищ.
Они перешли на другую сторону улицы и остановились перед каменным забором. Стена была уже выбелена.
— Пока вас не было, — объяснила девушка, — я принесла извести и побелила. Еще не высохло. Что будем писать?
Космас измерил взглядом длину стены и выбрал подходящий по размеру лозунг. Он окунул кисть в банку, которую держала девушка, быстро вынул ее, несколько раз повернул в воздухе, чтобы не стекала краска, и сделал первый мазок. Но вместо твердой линии на стене появилась какая-то загогулина.
— Ты не спеши, — посоветовала девушка. — Первый раз пишешь?
— Первый.
— Не спеши. Полегче води кистью.
Космас попробовал писать медленнее. Но тогда краска лилась прямо на него. С великими мучениями он дописал первое слово: «Долой». На другой стороне ловко и споро работал Георгис. Пока Космас трудился над первым словом, он уже покончил с двумя лозунгами.
— Ну, так мы с тобой до утра провозимся, товарищ, — заявила Космасу его маленькая помощница. — Подержи.
Она сунула ему банку и отобрала кисть.
— Что нужно писать?
— «Долой принудительную гражданскую мобилизацию!»
— Что это еще за мобилизация?
— Немцы хотят мобилизовать греков на строительство оборонительных сооружений.
— Ишь чего захотели! Диктуй по порядку.
— «Принудительную…»
Она быстро написала: «ПР…»
— А как дальше пишется? «Е» или «И»? Надо, чтоб было грамотно.
— «И».
Рука ее двигалась быстро.
— Где ты работаешь? — спросил Космас. — Вместе с Георгией, на фабрике.
— А как тебя зовут?
— Панайота. Ты меня не знаешь, а я тебя знаю.
— Ты знаешь меня? Откуда?
— Знаю.
Они уже догоняли Георгиса. Аккордеон непрерывно играл кантаты. На последнем лозунге обе группы поравнялись. Панайоту сменил Космас, теперь он тоже действовал довольно быстро. Буквы получались такими же, как у Георгиев, — четкими и красивыми. Кое-где по его совету Космас пририсовывал к ним завитушки. Панайота была в восторге:
— Молодец! Это ты хорошо написал.
— Но ты так и не сказала, откуда меня знаешь.
— Я видела тебя на демонстрации.
— Когда?
— У памятника Колокотронису, помнишь? Я была с Янной.
— Ты знаешь Янну?!
Панайота не успела ответить, хор внезапно перешел на коляду. Космас прислушался.
— Бежим! — крикнула Панайота.
— Одну минуту, я закончу! — сказал Космас и торопливо заработал кистью.
Но ему так и не удалось закончить лозунг. К ним бежала незнакомая девушка. Космас услышал прерывистое дыхание и голос:
— Едут!..
Панайота сорвалась с места. Незнакомая девушка пробежала мимо Космаса. Он бросился за ней. С верхнего конца улицы доносились крики, топот. Темноту улицы прорезали фары автомобилей.
Космас поравнялся с девушкой.
— Нужно куда-нибудь свернуть, — сказал он, — нас увидят.
Она не ответила. Но через несколько шагов кинулась к ограде, вскарабкалась на железные ворота и спрыгнула во двор дома. Когда Космас был уже на воротах, первый автомобиль подъехал к каменному забору. Свет его фар упал на бегущую Панайоту. Машина остановилась. Из кузова вывалились солдаты и стали фонариками освещать стены домов. Кто-то споткнулся о банку с красками и выругался, потом схватил банку и выплеснул краску на побеленную Панайотой стену.
Космас спрыгнул и огляделся. Они были в саду. Девушка стояла неподалеку, прислонившись спиной к забору.
— Бежим! — сказал Космас.
Она не ответила. Космас вгляделся и узнал Янну.
— Молчи, — сказала она шепотом. — Иди за мной!
Они пошли вдоль забора. Было слышно, как по улице бегали солдаты. Из дома, у которого пел хор, раздались выстрелы. В саду залаяли собаки, в дощатом курятнике с железной крышей закудахтали куры. Космас и Янна спрятались за курятником.
Почти час просидели они в саду. Шум на улице не смолкал. Немцы и жандармы суетились. Машины то уезжали, то возвращались. Несколько солдат влезли на забор и освещали сад фонарями. Они обшарили все кусты и не заметили ничего, кроме собаки, забившейся в угол и скулившей от страха.
— Давай пристрелим?
— Да что мы, с собаками, что ли, воюем? Постепенно шум на улице затих. Автомобили уехали, и воцарилась гробовая тишина.
Янна прислушалась.
— Выйти можно с другой стороны, — сказала она.
Подойдя к воротам, Янна взялась за решетку. Космас опередил ее. Но когда он влезал, Янна остановила его:
— Что это у тебя?
В руке Космас все еще держал кисть. Он поднялся на решетку, оглядел безлюдную улицу и подал Янне руку.
Некоторое время они шли по улице вместе. На перекрестке Янна остановилась.
— Здесь мы разойдемся, — сказала она. — Дай-ка сюда кисть, мне недалеко идти. А тебе далеко?
— Далековато.
— Скоро комендантский час. Поторопись. Спокойной ночи!
Но Космас не дал ей уйти. Он вдруг почувствовал, что не может снова потерять ее. Все эти трудные месяцы она была так необходима ему! Надо сказать ей об этом сегодня же, сейчас, сказать, что он без нее не может… Он окликнул ее:
— Янна!
Она обернулась.
И все то, что он приготовился ей сказать, вдруг куда-то исчезло, ускользнуло. В нем проснулось подозрение: бог знает, когда оно родилось в его душе; должно быть, он старался прятать его от самого себя.
— Позволь мне спросить тебя, Янна! Обещаешь сказать мне правду?.. Скажи мне, ты любишь Тениса?
Ему показалось, что она застонала.
— Ты любишь его? — снова спросил он. — Скажи мне правду… Почему ты молчишь, Янна? Ну, раз ты не хочешь говорить, так скажу я сам! Ты его любишь!
Он произнес это резко, с вызовом.
Янна не ответила. Она замахнулась, ударила Космаса по лицу и убежала.
* * *
Комендантский час уже прошел, когда Космас спустился в подвал Андрикоса. Старик спал. Телемах сидел на диване и читал.
— Все в порядке? — спросил он.
Космас не ответил. Он присел рядом с Телемахом и попытался собраться с мыслями.
— Так ты уже знаешь?
— О чем?
— О Тенисе.
— Что?
— Сегодня утром его расстреляли. Комната поплыла перед глазами Космаса.
— Расстреляли его и еще шестьдесят человек. Тенису удалось выбросить из грузовика платок с запиской.
В записке Космас прочитал:
«Друзья мои, я иду на расстрел. Пусть моя смерть даст вам новые силы продолжать борьбу. Мы умираем за свободу. Из этой борьбы наш народ должен выйти победителем. И это значит, что наша кровь пролита недаром. Янна, любимая моя! Мои последние мысли с тобой. Я хотел принести тебе счастье и не смог. Сейчас, уходя из жизни, желаю тебе найти товарища, достойного меня и тебя. Прощайте.
Тенис».
IV
Старый, изъеденный червями комод, на комоде коптилка. На полутемной стене двигаются — сгибаются и разгибаются — тени, Космас работает обнаженный до пояса. За окном сильный ветер. Рядом трудится бабушка Агнула.
Еще десять дней назад они не знали друг друга. А теперь он называет ее бабушкой, она его внуком. Бабушкой и внуком считают их соседи. Для соседей бабушка — вдова офицера, полковника в отставке, умершего от голода в 1941 году. После его смерти она продала свой дом в центре и сняла домик поменьше, на окраине. Космас — ее внук, сын ее сына, капитана, погибшего в Албании, Об этом свидетельствуют их паспорта и остальные документы. Документы с печатями, — словом, все как полагается.
Они работают по ночам.
Прежде чем снять этот домик, Космас взвесил все «за» и «против». Дом имел много преимуществ: в нем были две маленькие комнаты с кухней, от соседних домов он отделен садом с одной стороны и длинным цементным забором — с другой. Есть еще один плюс: остановка автобуса перед домом. Выходя из автобуса, попадаешь прямо в дверь, ускользая от посторонних взглядов на улице. Правда, есть в этом и свой минус: весь день на остановке толчется народ, особенно по утрам, когда вытягивается длинная очередь. А если идет дождь, люди жмутся к стене и садятся на подоконники. Поэтому днем работать нельзя. Приходится приступать к работе лишь после отхода последнего автобуса.
Тогда они поднимают с пола четыре доски и копают подвал. Заканчивают работу только под утро. Труднейшая проблема: куда девать землю? К счастью, под рукой огород, он заброшен и зарос травой. Космас пропадает там целыми днями: копает, разбивает грядки, проводит арычки. По ночам бабушка Агнула выносит туда землю. Она бросает ее на свежевскопанные грядки. Но земли слишком много, всю сразу не вынесешь. Подвал должен быть глубоким: там нужно поместить три ящика, типографский пресс и столик с радиоприемником. Товарищи торопят. Они знают, что им трудно, что на это, в сущности, нужны месяцы непрерывной работы. Они знают все. И тем не менее дали им всего пятнадцать дней. На шестнадцатый день должна выйти первая листовка. Когда все будет готово, организация пришлет редактора.
Поручение Им дал сам секретарь организации. Он приходил к ним в тот день, когда они начали работу, и придет еще раз в тот день, когда они ее закончат.
— Крепись, бабушка!
— Не бойся за меня, сынок. Держись сам!
Космас превратился в скелет. Глаза покраснели, под глазами черные круги. Ночью — работа, днем — работа.
Однажды, копая огород, он почувствовал на себе взгляд соседки, смотревшей на него через забор. Настойчивый, пристальный взгляд. Он оглянулся, соседка исчезла. Космас растерялся. Сказать бабушке или не пугать ее понапрасну?
Вечером в дверь постучали.
Бабушка поспешила открыть. Космас навострил уши.
— Госпожа Иоанну! Простите, пожалуйста, госпожа Иоанну, не обижайтесь, это для Василакиса. (Под этим именем Космаса представили соседям.) Бога ради, поймите меня правильно, госпожа! Дети в таком возрасте… У меня у самой дети, и я знаю…
Бабушка:
— Да не стоит беспокоиться, госпожа Афина! Да зачем это? Правда, сейчас тяжелые времена…
— Знаю, знаю, госпожа Иоанну… У меня тоже дети…
— Василакис устает, очень устает.
— Берегите его, моя милая.
— Да он не слушается меня, госпожа Афина… Разве дети нас слушают? Днем работает в огороде, а ночи… все ночи напролет, госпожа Афина, сидит над книгами. Готовится к экзаменам в высшее агротехническое…
И течет тихая, доверительная беседа двух соседок. Бабушка, как видно, намекнула госпоже Афине, что Василакис сейчас отдыхает. Это хороший повод не приглашать ее в комнаты. Вскоре дверь захлопывается. Бабушка входит, в руках у нее блюдо с кремом. Муж госпожи Афины мелкий маклер.
Бабушка отлично сыграла свою роль. Эта старуха незаменимый товарищ. Всю свою жизнь она провела в типографии. Она выпускала первые подпольные листовки. И новый подвал сооружается по плану прежнего подвала бабушки. Она отлично помнит его расположение, а стоит ей что-нибудь забыть, как она закрывает глаза и тут же вспоминает.
Работа продвигается. Космас каждый вечер вскапывает грядки, чтобы земля казалась свежей. Часть земли приходится сносить на чердак: иногда ночи бывают такими светлыми, что выйти в сад невозможно.
Космас спит считанные часы, до тех пор, пока не уйдет последний автобус. Тогда бабушка вынимает доски. Если он не услышит шума, она его не будит и начинает работу одна. Тихо-тихо, чтобы не потревожить Космаса, Он просыпается, вскакивает, бросает в лицо пригоршню воды и прыгает вниз.
Подвал уже глубок, почти в его рост. Коптилки они ставят на краю отверстия. Окна завешаны одеялами, чтобы на улицу не проникали ни свет, ни шум. Работать нужно осторожно. Сначала, подняв половицы, они рыхлили землю отвертками и ножами. Потом взялись за кирки. Земля твердая, и кирку приходится опускать с большой силой. Но бесшумно. Для этого требуется сноровка, и Космас приноровился. Бабушка изумлена. Секрет в том, объясняет Космас, чтобы нажимать на кирку, когда она почти касается земли. Это вдвое утомительнее, потому что кирка врезается в землю не своей тяжестью, а силой Космаса. Она действует как рычаг.
Когмас работает в трусах и обливается соленым потом. Он копает до тех пор, пока бабушка не отнимает у него кирку. Тогда он набрасывается на воду и выпивает целый кувшин. Вода тут же выступает изо всех пор, и он становится таким мокрым, что хоть выжимай.
На ладонях волдыри. Кровавые. Поэтому руки в бинтах. Больно только в первые часы, дальше он уже ничего не чувствует — ни боли, ни бешеного сердцебиения. Не слышит голоса бабушки, уговаривавшей его передохнуть. Бабушка силой усаживает его. И в ту же минуту им овладевает сон. Голова тяжелеет, веки смыкаются, ресницы слипаются.
…Потом его кто-то зовет. Вместе с Телемахом они отправляются к секретарю. Едут сначала в трамвае, потом в автобусе. Входят в какое-то ателье, огибают перегородку и спускаются по лестнице. «Мы пришли немного раньше, — говорит Телемах. — Ставрос всегда является с точностью до секунды…» Ставрос! Он не помнит, когда в первый раз услышал это имя. Его произносят тихо и серьезно. Оно связано с тюрьмой, подпольем, борьбой, с верой и непоколебимой преданностью цели. Ставрос пришел секунда в секунду. Высокий, плечистый; тонкие губы, которые никогда не улыбаются. Твердый голос: «Шестнадцатого нужно закончить. Через пятнадцать дней мы должны выпустить первый листок!» Через пятнадцать дней!.. Потом через четырнадцать, тринадцать, десять, семь…
Бабушка за его спиной убирает землю. Она наполняет ею два ведра и проворно, как девочка, прыгает из подвала и в подвал.
— Устала, бабушка?
— Устала.
— Ну, садись, отдохни.
— Сяду. Вот снесу ведро и сяду, И носит до самого утра…
Земля вынесена не вся. Часть остается до следующего вечера. Они стоят, прикидывают на глаз. Начинаются расчеты. Космас проводит на стене двенадцатую черту — двенадцатый день работы окончен…
* * *
Секретарь — третье лицо, посвященное в тайны маленького домика. Есть и четвертое — Янна.
Она племянница госпожи Иоанну. Дочь ее младшего брата, господина Такиса, который служит заведующим отделом в каком-то министерстве. Правда, он еще не приходил к сестре в ее новый дом. Очень занят. Но скоро обязательно зайдет. Космас догадывается, что роль господина Такиса предназначена для редактора, которого они ждут.
Янна приходит регулярно. Приносит корзинку с фруктами, что-нибудь из продуктов. Поцелуи, объятия, и все это во дворе, на виду. Янна тоже выполняет важное поручение: до конца срока она должна перетащить к ним шрифт. Она носит его понемногу — на дне корзинки. Для перевозки пресса и приемника тоже нашелся благовидный предлог: госпожа Иоанну еще не перевезла все свои вещи, и ее брат, господин Такис, на днях возьмет служебную машину и доставит все остальное.
Когда приходит Янна, Космас всегда чем-нибудь занят. Он старается не оставаться с ней наедине. Но однажды это все-таки происходит: бабушка вышла в огород, и они остались с глазу на глаз. Он хотел объясниться, но не смог: возвращаться к тому разговору слишком тяжело. Пожалуй, впервые с тех пор она не смотрит на него враждебно, отчужденно. Но в ее взгляде Космас угадывает жалость: Янна его жалеет. Наверное, жалеет «мелкого буржуйчика», взявшегося не за свое дело…
* * *
Космас провел на стене тринадцатую черту, и бабушка Агнула вдруг объявила, что работа закончена.
Она снова спустилась в подвал, осмотрела, обмерила пядью и, пожалуй, впервые за все это время пришла в хорошее настроение.
После обеда бабушка принарядилась. Космас слышал, как она разговаривала во дворе с госпожой Афиной.
— В город собралась, госпожа Иоанну?
— Что поделаешь, госпожа Афина! Сегодня нужно получить пенсию. Пора позаботиться и о вещах. Если Такису сегодня дадут машину… А то без вещей все как-то не по себе, будто в чужом доме живешь.
— Ну что тут говорить, госпожа Иоанну, если у хозяйки не все под рукой…
V
Вещи госпожи Иоанну доставлены. И хотя заведующий отделом министерства еще не появился, они сразу же взялись за дело.
Просторный подвал перегородили, по одну сторону разместили типографские ящики, по другую — пресс. Там же на чурбаках пристроили приемник. С приемником пришлось повозиться. Чтобы его замаскировать, поставили легальный приемник наверху, в комнате. За одну ночь Космас стал заправским электротехником. Он так удачно сделал проводку, что ему мог бы позавидовать настоящий мастер.
Яма глубокая — наборщик может стоять в ней во весь рост. Но отверстие нельзя закрывать ни на минуту — воздуха не хватает. В подвале душно и сыро. Пахнет землей, которой завален весь дом. А тут еще и сурьма! Пары поднимаются в комнаты; окна распахнуты настежь, но это не помогает. Бабушка утешает: скоро все выветрится.
Не успели они преодолеть первые трудности, как появились новые. Нужно обучиться набору. Сейчас этим занимается бабушка: она вооружается очками, и мигнуть не успеешь, как в верстатке уже лежит несколько строк.
Первая прокламация не длинная. Две тетрадные страницы, исписанные карандашом. Для бабушки это сущий пустяк. Космас тоже мучается над шрифтом. Он набирает по буковке. Все внимание сосредоточено на кассе: в одном квадрате заглавные буквы, в другом — строчные, с ударением, без ударения, знаки препинания — для всех свое место. Но Космас никак не может привыкнуть. Буквы ускользают от него, прыгают из квадрата в квадрат, и вот уже рушатся квадраты, а вслед за ними и весь набор. Верстатка тоже норовит выскользнуть из рук. Пальцы не слушаются: вместо того чтобы ставить буквы в верстатку, они тянут их в кассу.
Наконец Космас набрал первый параграф. Он укрепил набранную страницу, прошелся по ней валиком и снял листок. Ничего не получилось. Ни одно слово не стоит, где ему положено. Буквы перемешаны, ударения рассеяны как попало, заглавные буквы втесались в середину слова.
Бабушка Агнула ободряет:
— Для начала совсем не плохо!
Она берет в левую руку верстатку, в правую — вилку, и ее руки, словно вышивая, делают стежок за стежком. Они чуть-чуть дрожат, но мелькают так быстро, что начинает рябить в глазах.
— А теперь сними-ка, Космас!
Она хватает листок бумаги и валиком прижимает его к набору. Космас сдергивает страницу. Фраза течет гладко и свободно: «Вперед! Сыновья и дочери Греции, готовьтесь к решительной борьбе…»
Сердце Космаса трепещет. Сколько раз испытывал он волнение при виде подпольной листовки! А теперь перед ним листовка, в которой есть крупица и его труда.
Руки бабушки Агнулы мелькают, как спицы. И пока Космас готовит бумагу, страница уже набрана и стиснута в рамках. Пресс пока еще не собран, но им помогает многолетний опыт бабушки — работают они по методам, существовавшим еще на заре типографского дела. Бабушка закрепила набор в железных тисках и полила сверху чернилами. Одной рукой накрывает набор чистым листком, другой снимает отпечатанный. Космас изо всех сил налегает валиком на бумагу.
Сначала дело шло плохо. Валик тяжел, руки у бабушки болят и дрожат. И что хуже всего — они никак не могут войти в ритм. Шелест листов, слетающих с бумажной горки, вращение валика и скольжение готовых прокламаций, падающих на пол, — три процесса, из которых возникнет этот ритм, постепенно овладеет всем и всех подчинит своей воле.
Окна завешены одеялами, дверь на крепком засове, половицы подняты. Постели на всякий случай разобраны, сняты покрывала, словно только сию минуту с кровати поднялся спавший человек.
А внизу работа идет своим чередом. Оба изнемогают, но не отходят от станка.
Нужно отпечатать две тысячи листовок. Они отпечатали две с половиной. Рассветает. Теперь надо готовить пакеты.
Потом бабушка выходит во двор. Соседи уже проснулись. Куры кудахчут и требуют корма… Космас совершает утренний обход огорода. Где покопается в грядке, где выдернет сорняк. И только потом идет спать. Голова тяжелая, в ушах гудит.
Космас погружается в глубокое забытье. Но и во сне перед ним мелькают и прыгают буквы, вращаются квадраты, скачет верстатка, а вместе с ними кружится и сам подвал.
Во дворе бабушка беседует с курами: «Цып-цып-цып…»
Тяжелый валик продолжает вращаться…
VI
Сегодня наконец явился господин Такис — «заведующий отделом в министерстве». Он приехал на машине и привез остальные вещи госпожи Иоанну.
Вместе с господином Такисом приехала его дочь Янна. Надо сказать, что тут госпожа Иоанну не покривила душой, их родство было подлинным.
Войдя в дом, господин Такис сразу же подошел к Космасу:
— Ну, как ты поживаешь, Космас?
Где он видел эти глаза? Эту добрую улыбку?
— Ты не помнишь меня, Космас? Очень грустно.
Космас и в самом деле узнал его с трудом.
— Очень, очень грустно. Неужели я так постарел?
— Не то что постарели, мастер Павел, но…
— Но? Какое уж тут «но»! Нечего скрывать. Значит, и в самом деле постарел.
Он провел ладонью по волосам. Они не поредели, но стали совсем седыми. Лишь кое-где сохранились темные прядки. Мастер с улыбкой посмотрел на Космаса: «Да, значит, и в самом деле постарел». И его мысли унеслись куда-то очень далеко. — Сколько лет прошло с тех пор?
Он стал подсчитывать:
— Десять, а?.. Примерно десять… — И похлопал Космаса по плечу. — Ну, рассказывай. Что там теперь, в ваших местах? И давай будем на «ты»…
Повернется ли язык говорить с ним на «ты»? И можно ли называть его, как прежде, «мастер Павел»? Космас слышал, как бабушка пару раз назвала его «товарищ Спирос». Какое из этих имен настоящее? Может быть, оба вымышленные?
— Должно быть, движение в ваших местах усилилось, — говорил мастер Павел. — У вас там хорошие традиции. В Акронавплии{[55]} был кое-кто из ваших мест, крепкие ребята. Они устраивали замечательные вечера самодеятельности. Признаться, я не помню ни одной тюрьмы или ссылки, где бы я не встретил кого-нибудь из ваших краев. В Фолегандро{[56]} тоже был один сапожник из ваших мест — Христос. Ты помнишь Христоса?
— Нет.
— Его расстреляли в Хайдари{[57]}. Мы спали с ним бок о бок. Но где тебе его помнить… Сколько лет тебе тогда было? Около десяти?
— Десять.
Мастер Павел снял пиджак, присел на кровать и закурил. Видно было, что ему приятно вспомнить былое.
— А я тебя хорошо помню, Космас. Каждый день проходил мимо вашего дома, смотрел, как вы, дети, играете, и думал: «Кем они станут, когда вырастут? Друзьями или врагами?» И отца твоего я хорошо помню. Как у него дела?
Но тут же понял и осекся. Космас вывел его из тяжелого положения. Он начал вспоминать табачную лавку, пожар, госпожу Аврокоми. Оказывается, мастер Павел тоже не забыл ее и добродушно засмеялся, когда Космас напомнил ему, как крестилась при его виде эта набожная женщина.
Он смеялся и качал головой:
— Но и мы тоже откалывали номера! В похоронах участвовали, а в церковь не заходили.
* * *
С наступлением ночи они заперли дверь и спустились в подвал. Товарищ Спирос пришел в восторг от их работы. Он обнял и расцеловал и бабушку, и Космаса.
— Какие молодцы! Когда у нас будет народная демократия, мы воздадим вам должное. А пока… примите мои сердечные поздравления и, — он вынул часы, — соблюдайте полное молчание!
Он присел возле радиоприемника и повернул ручку. Стрелка часов приближалась к восьми. Спирос вынул карандаш, положил перед собой пачку бумаги и сказал Космасу:
— Ты тоже возьми карандаш, бумагу и садись рядом. Сейчас мы тебя проверим. Смотри, старайся не пропустить ни слова.
Слышно было, как в эфире работают глушители. Иногда рев становился таким громким, что Космас испуганно переглядывался с Янной.
— Не бойтесь, — успокаивал Спирос, — подвал нас не выдаст.
Сквозь шум глушителей стала прорываться музыка.
Мастер взялся за ручку. Рёв понемногу стихал, и музыка слышалась отчетливее. Спирос поудобнее устроился на стуле и приготовился писать.
В этот вечер Космас впервые слушал Москву.
Сначала раздался женский голос:
— Говорит Москва! Смерть немецким оккупантам!
Россию Космас знал лишь по учебникам и книгам, но эта необъятная страна всегда волновала его воображение. В детстве он любил, склонившись над картой, смотреть на очертания материков и стран. Каждую страну Космас представлял по-своему. Россия казалась ему гигантом, одной ногой стоящим в Европе, другой — в Азии. Этот образ крепко засел у него в голове, с ним связывалось все новое, что он узнавал об этой стране. В мечтах он часто плавал по ее рекам, шагал по необозримым степям, проникал в сибирскую тайгу… Он полюбил ее бескрайние просторы, ее великодушных и добрых людей. Любовь к России ему привили русские книги. Он читал их не для развлечения, в них не было благополучных концов и увлекательных сюжетов. Но они хватали за душу, заставляли думать и страдать: каждая прочитанная книга была испытанием его совести.
Достоевский ввел его в бесконечный лабиринт мыслей и страстей. Он провел его по тайным и темным тропинкам человеческой души. Князь Мышкин, братья Карамазовы, студент Раскольников… В каждом из них Космас нашел частицу самого себя…
Еще ниже он склонялся перед другим божеством — перед Львом Толстым, русским Зевсом. В его библейском лике с белой бородой и густыми бровями Космасу виделось лицо России. Он верил, что этот худощавый старик в крестьянской рубахе, с грубыми чертами лица и гигантским умом — самый русский из русских. Лев Толстой был таким же гигантом, как народ, породивший его.
Космас знал Россию и по ее протяжным песням. Он услыхал их совсем мальчиком от одного русского, который бежал в Грецию, спасаясь от царских властей. Яков ходил по городам и играл на балалайке русские песни.
Русские песни так же, как русские книги, бередили сердце, звали на борьбу и мучения, к бурям и жертвам. И за этими длинными печальными песнями вставала Россия — безграничный океан народного страдания.
Но были у Якова и другие песни. Он приберегал их, как берегут праздничную одежду, и пел их лишь глубокой ночью — это были песни о новой России, которая сбросила цепи, разгромила старый мир и начала созидать новый. Яков не отведал счастья новой жизни, но ее далекое дыхание согревало его. Он очень гордился тем, что русский.
«Пора, пора на родину…» — этим заканчивались все его песни. Власти долго не давали ему бумаг, но в конце концов он уехал.
И вот сейчас из России доносится голос, который стараются заглушить. Женский голос; Космас скорее угадывает, чем слышит его: «Смерть немецким оккупантам!»
* * *
Как только окончилась передача, они принялись за работу. Спирос и Космас сопоставили свои записи. Космас не пропустил ни одного слова.
— Отлично! — радовался Спирос. — Наша молодежь в авангарде.
Бабушка и Янна уже начали набирать текст. И пока Космас набело переписывал сводку, Спирос набросал статью. Он писал очень быстро, время от времени приостанавливался, грыз карандаш, потом снова склонялся над бумагой.
В тот же вечер они собрали пресс. Когда он был готов, Спирос хлопнул Космаса по плечу.
— Ну, а теперь с богом! Возьмись-ка за эту ручку и дерни ее книзу.
Ручка была тяжелая, и Космасу стоило большого труда опустить ее. Схватившись обеими руками, он напряг все свои силы. Тогда ручка поддалась и стремительно пошла вниз, валик ударил по станку, и Космас свалился прямо на машину.
— Мужайся! — сказал Спирос. — Каждый вечер тебе придется тысячи раз поднимать и опускать ее. Выдержишь?
— Выдержу!
— Я так и думал. Но ты еще не представляешь себе, до чего это трудно. Требуется неослабное внимание. Внимание и умение. Нужно научиться работать, и тогда машина будет тебя слушаться.
Он одной рукой взялся за рукоятку и, слегка нажав, толкнул ее вниз. Она плавно опустилась и поднялась сама. Машина заработала спокойно, ритмично. Валик прокатывался по станку, огибал его снизу, набирал краски и легко поднимался.
Пока заканчивали набор, Спирос вытащил доску с заголовком газеты. Эту доску он принес с собой. Заголовок «За свободу!» был написан большими буквами с чуть заметным наклоном, На самом верху маленькими буквами был вытиснен девиз: «Свобода — народу, смерть — фашизму!» В правом углу кулак с вытянутым пальцем.
— Нравится? — спросил Спирос.
— Очень!
— Тогда можешь меня поздравить. Все это сделал я. Впрочем, я ничего тут не изобрел. Буквы я скопировал с журналов. А эту руку…
Он засмеялся.
— Знаешь, Космас, чья это рука?
— Чья?
— Кафантариса{[58]}. Я рылся в старых газетах и наткнулся на одну фотографию, где его сняли во время предвыборного собрания в Карпениси. Ну, я и срисовал его руку. Представляешь, что будет с Кафантарисом, если он узнает, что его руку использовал ЭАМ…
* * *
Первые десять дней Спирос почти не выходил из подвала. Нужно было то поймать сводку, то написать статью, то подготовить материал для газеты. Спирос учил Космаса правильно обращаться с прессом, править гранки, ловить передачи, верстать. Сам он был мастер на все руки. Радиоприемник, электрооборудование, типография — за что бы он ни брался, все у него спорилось. А закончив работу, Спирос сразу же садился за книгу.
Книги были его страстью. Каждый день Янна приносила ему пачку книг. И в подвале один угол был уже целиком завален ими. Космас взялся было за Энгельса, за знаменитый «Анти-Дюринг», но вынужден был отложить его после первой же страницы: он ничего не понял. Спирос подбодрил его, сказал, что в чтении нужна система. И скоро Янна принесла маленькую брошюрку, в двадцать страниц, на гектографе — «Шесть простых уроков». Начиналась она с первобытного коммунизма. Космасу понадобилось несколько дней, чтобы, перешагнув через тысячелетия, оставить позади рабов и рабовладельцев, крепостных и феодалов, пролетариев и капиталистов и добраться до эпохи социализма. Космас закрыл брошюру. В следующей книжке было шестьдесят страниц. На первой странице Космас прочитал: «Призрак бродит по Европе…»
VII
После расстрела Тениса Янна замкнулась в себе. За несколько дней она очень похудела и побледнела. Ночью она вздрагивала от каждого шороха. Внезапные шаги на улице, стук в дверь, шум машин и даже грохот в радиоприемнике вызывали у нее болезненное беспокойство. Янна хорошо владела собой, но от внимательного взгляда Космаса она ничего утаить не могла.
Часы, когда Янна уходила из дома, тянулись долго и томительно. Космас ни на секунду не мог забыть о том, что Янна подвергается опасности, что ее в любую минуту могут схватить: ведь она разносила газеты и прокламации и доставляла им новые материалы. Он успокаивался только тогда, когда Янна возвращалась. В эти минуты он бывал по-настоящему счастлив. Он испытывал облегчение, подобное тому, какое испытывает ночной сторож, когда дежурство кончено и можно идти на покой. Космас прислушивался к шуму автобуса, остановившегося возле дома, ждал, когда раздадутся ее шаги во дворе, когда хлопнет дверь…
Они жили теперь под одной крышей, но их по-прежнему разделяла неодолимая преграда. Как в школьные времена. Они словно заключили неписаное соглашение: если в присутствии других еще перекидывались время от времени парою ничего не значащих фраз, то, оставаясь наедине, хранили молчание. Каждый старался найти себе дело даже в те минуты, когда никакого дела и не было. Но иногда глаза, не подчинявшиеся их воле, все же встречались и тут же разлучались.
Как-то в воскресенье, после обеда, Космас и Янна вышли из дому вместе. Решились на это они не сами. Бабушка Агнула не переставала ворчать: «Столько времени здесь живем, а соседи ни разу не видели, чтобы вы сходили куда-нибудь вдвоем».
Они сели в автобус, но за две остановки до центра Янна сошла. Она сказала, что пойдет к своим знакомым. Для того чтобы возвратиться вместе, они условились встретиться на остановке. И так каждое воскресенье.
* * *
Время шло. Ночи с изнурительным и бешеным ритмом работы пролетали незаметно, ничем не заполненные дни тянулись долго и монотонно.
Одно за другим приходили и уходили воскресенья. Начиналась новая неделя, и Космас каждый раз с нетерпением ждал ее конца. Он втайне лелеял надежду, что когда-нибудь ему повезет. Но все воскресенья были похожи одно на другое, и, разочарованно слоняясь по улицам, Космас чувствовал, что снова теряет Янну. Она все больше отдалялась, и он ждал, что вот-вот придет день, когда он опять надолго потеряет ее. За все это время она подошла к нему лишь два раза, и эти два мгновения сделали его счастливым.
В первый раз это произошло вечером. Космас и обе женщины работали в подвале. Янна подкладывала на станок бумагу, бабушка собирала отпечатанные листы. Они работали вот уже двое суток и изнемогали от усталости. Космас чувствовал, что вот-вот упадет на пресс. Неожиданно Янна отложила бумагу в сторону и взяла Космаса за руку.
— Отдохни немножко, я за тебя поработаю.
В другой раз он сидел за радиоприемником и вдруг услышал, как Янна спускается по лестничке. Она подошла к нему, что-то положила на стол.
— Это тебе для глаз. — И взбежала по ступенькам. В футляре были темные очки. От бессонных ночей и подвальной пыли у Космаса разболелись глаза. Они покраснели и гноились. Больше всего их раздражал свет. Поэтому Космас прикрывал лампочку листком белой бумаги.
В тот вечер все в нем пело от радости. Потом Янна принесла ему какие-то книги и сама позвала к столу. Но счастье длилось недолго. После ужина женщины спустились в подвал, Космас остался в комнате. Вскоре его окликнули. Бабушка выглянула из подвала и попросила принести ей очки, которые она оставила у себя на кровати.
Космас избегал входить в комнату женщин. А после того как Янна окончательно переселилась к ним, он не заглядывал туда ни разу.
Он открыл дверь и зажег свет. На тумбочке возле кровати Янны на черной шелковой салфетке стояла фотография в рамке. Из-под стекла, серьезный, но очень счастливый, на него смотрел Теннис.
VIII
В те дни они трудились без отдыха. Чтобы справиться с заданием, приходилось работать даже днем. Параллельно с выпуском газеты они должны были за десять дней отпечатать брошюру о целях организации ЭАМ.
Раза два Спирос приводил с собой незнакомого человека. Вдвоем они спускались в подвал и часами правили текст брошюры. Приходили вечерами, когда было уже совсем темно. На глазах у мужчины была повязка. Спирос вел его за руку. Потом они узнали, что это был профессор и что повязку он надевал, чтобы не видеть, куда его ведут. Он боялся в случае ареста выдать под пытками адрес типографии.
Работа шла хорошо. Как-то вечером вместе со Спиросом пришел Ставрос. Это было его первое посещение с тех пор, как типография вступила в строй. Осмотрев подвал, он не сказал ни слова. Но бабушка Агнула шепнула Космасу, что это хороший признак: Ставрос не любит хвалить, и если открывает рот, то только для того, чтобы раскритиковать. О том, что со Ставросом шутки плохи, знали все. Он не прощал никаких промахов.
В тот вечер Космас испытал это на себе. С месяц назад он совершил серьезный проступок. Нужно было поймать передачу из Лондона. Дня за два до этого партизаны ЭЛАС взорвали немецкий эшелон в Фессалии, и вот уже второй вечер в типографии ждали официального сообщения Генерального штаба Среднего Востока. Двое суток подпольщики не смыкали глаз. И случилось так, что Космас от усталости заснул за радиоприемником. Когда в подвал спустился Спирос, было уже поздно — Космас проспал сообщение. Потом спустились женщины. Все трое смотрели на него как чужие, особенно рассердился Спирос. Но видно было, что он сердился не столько на Космаса, сколько на себя.
С тех пор прошло больше месяца, и в подвале забыли о проступке Космаса, но Ставрос о нем помнил.
— Товарищ Космас! — сказал он, медленно выговаривая каждое слово и постукивая карандашом по столу. — Бюро постановило отменить наказание. Но должен тебе сказать, что я голосовал за него. Ошибка сделана — нужно расплачиваться!
— Ошибка в основном моя, — возразил Спирос. — Вина Космаса не так уж велика, и он загладил ее своей работой…
— Велика или нет — все равно вина остается виной… Ставрос сказал это очень резко, и Космас не понял, кого он обвиняет, его или Спироса.
А Ставрос продолжал, все так же постукивая карандашом по столу:
— И еще одна маленькая деталь, товарищи…
В восемнадцать лет Ставрос, работавший тогда на фабрике, был арестован, сослан на один из островов Эгейского моря и попал в одну группу со ссыльными коммунистами. Там он провел годы молодости, а потом и годы зрелости. Начали седеть волосы, испортились зубы, заболели почки и легкие. И, наконец, стали редеть ряды его товарищей. Одни не выдерживали тяжелых условий и умирали; другие падали духом. И лишь немногие, не ослабевшие ни духом, ни телом, оставались на острове.
Одно время Ставрос и Спирос отбывали ссылку вместе. Их связывала большая дружба, скрепленная годами преследований и борьбы. Говорили, что во время диктатуры, когда заключенные лагеря на одном из островов умирали от голода, Спирос вырвал Ставроса из рук смерти. От самого Спироса тогда остались лишь кожа да кости. Но он делил свою жалкую порцию со Ставросом и помог ему победить болезнь. К этому периоду относится эпизод, который принес им в свое время немало неприятных минут. Это была история одного боба. Однажды они варили бобы — по десять бобов на брата. Но в тарелке Ставроса оказалось одиннадцать бобов, и он набросился на Спироса, дежурившего в тот день, упрекая его, что он необъективно подходит к дележу и по дружбе подложил ему лишний боб. А ведь есть и другие товарищи, они больны еще тяжелей, и если нашелся лишний боб, нужно было дать его им; дежурный не сделал этого потому, что подошел к вопросу с личной точки зрения, он не оправдал Доверия группы, и дело теперь не в бобе, а в принципе, поэтому группа должна высказать свое мнение и принять меры. Ставрос смотрел на Спироса в упор и говорил, что из истории с бобом необходимо извлечь политические уроки. Потом он взял лишний боб и положил его в тарелку Спироса. Наклонившись, он пересчитал бобы; если бы и у Спироса оказалось одиннадцать, неизвестно, до каких размеров раздул бы он это дело. Но в тарелке было девять бобов.
Теперь история с бобами известна многим. Одни приводят ее как пример принципиальности Ставроса. Другие считают, что эта история не говорит в его пользу. Иногда об одиннадцатом бобе со смехом вспоминает и сам Спирос.
Что еще можно сказать о Ставросе? Его жизнь стала сплошной жертвой. Уже в ранней молодости на место слова «хочу» он поставил слово «надо». Надо было бежать из тюрьмы — он бежал. Надо было оставаться — оставался. Он всегда выполнял свой долг. И, подавляя в себе желания и страсти, Ставрос требовал этого и от других. Он мерил каждого той же строгой меркой, с которой подходил к себе. Он всегда действовал по принципу: то, что сделано хорошо, может быть сделано лучше. Поэтому Ставрос не любил хвалить, а если ему и случалось это сделать, то в свою речь он обязательно вставлял всякие «но», «все-таки», «однако»… Типография Ставросу, как видно, понравилась, но он не сказал этого сразу: ведь должны же обнаружиться какие-нибудь недочеты. Не найдя никаких недочетов, он вспомнил, что однажды вечером в типографии по вине радиста пропустили передачу из Лондона.
Космас не забыл тот вечер, когда в типографии впервые появился Спирос. Тот не скрывал своего восхищения: как опытный хозяин, и похвалил, и пожурил, и помог советом.
Сейчас оба ветерана сидят рядом за столиком. Глядя на их седые головы, склоненные над брошюрой, Космас пытается понять, почему эти люди одной судьбы и одной цели так по-разному вошли в его жизнь и в его душу. В чем они расходятся и кому бы из них он отдал предпочтение?
* * *
Спирос и Ставрос сидели рядом над текстом брошюры. В подвале было тихо, слышался только шорох разрезаемой бумаги.
Неожиданно раздался голос Ставроса:
— Это слишком уж в лоб!
Спирос положил бумаги на столик и склонился к плечу товарища.
Эта брошюра, как видно, была самым важным заданием из всех, какие получала нелегальная типография. До сих пор к работе еще ни разу не привлекались новые люди. А тут появился профессор. Дважды они со Спиросом запирались в подвале и спорили всю ночь напролет. Время от времени профессор кричал тоненьким голоском, долетавшим в комнаты, и тогда они стучали им: шум могли услышать снаружи.
Сейчас Ставрос и Спирос не повышали голоса, они разговаривали тихо, не горячась, но судя по их тону, речь шла о вещах серьезных. Дискуссия длилась довольно долго, и Космас не все понял. Так, например, он не понял, что показалось Ставросу «лобовым». Спирос склонился к плечу товарища и, рассмеявшись, сказал:
— Что же здесь лобового? Это положение устава, изложенное несколько упрощенно.
Но Ставроса, по-видимому, это объяснение не убедило. Все тем же тоном, словно не расслышав слов Спироса, он проговорил:
— Вот за такие фразы цепляются наши противники и трезвонят во все колокола, будто мы ведем классовую, борьбу.
Спирос не соглашался. Противники все равно будут цепляться, как бы ни были сформулированы цели борьбы. А такая формулировка ясно излагает суть дела: ЭАМ не прекратит борьбы, пока народ не получит свои суверенные права. И дело теперь не в том, что скажет кто бы то ни было, а в том, насколько ясно определены цель борьбы, ее условия и расстановка сил.
— Если не можешь преодолеть опасности, постарайся избежать ее, — ответил Ставрос.
— Я-то ее избегаю, — засмеялся Спирос, — да вот станет ли она меня избегать?
— Так, значит, признать столкновение неизбежным? — иронически усмехнулся Ставрос.
Спирос ответил ему не сразу. Он снова сел за столик и несколько минут помолчал.
— Ты знаешь мою точку зрения на этот вопрос, Ставрос, — сказал он немного погодя. — Если мы будем считать столкновение, о котором ты толкуешь, неизбежным и приготовимся дать отпор, то это поможет нам избежать его. Но если мы недооценим опасность…
Ставрос засмеялся. Первый раз за весь вечер Космас услышал его смех.
— Ты рассуждаешь сейчас как древний римлянин, — сказал он Спиросу. — Если хочешь мира, готовься к войне… Но мы ни в коем случае не должны допустить столкновения. Ведь ЭАМ заявляет во всех своих документах; сейчас мы ведем национальную борьбу. ЭАМ — это войско союзников, поставившее своей целью разгром фашизма. ЭАМ борется за объединение всех патриотов, за то, чтобы очистить греческую землю от последнего захватчика. Этому мы должны подчинить все свои политические стремления, ради этого мы жертвуем всем. Сначала мы прогоним захватчиков, и тогда сам народ свободно изберет способ управления страной.
Спирос молча слушал его, одобрительно кивая головой, но едва Ставрос кончил, он задал вопрос:
— Хорошо, но где гарантии свободного выбора?
— Народ. Народ, многому научившийся в тяжелых испытаниях. Народ, научившийся отличать черное от белого, народ, в тяжкий час страдания познавший своих друзей и врагов. Кто поднял его в минуту бедствия? Кто повел его на борьбу за жизнь и свободу? Никто уже не в силах обмануть его. ЭАМ стал душой народа, и народ пошел за ним, потому что принял его программу, — говорил Ставрос. — И это не пустые слова. Не должно быть ни малейшего расхождения между тем, что мы говорим, и тем, что делаем. Мы не политиканы, а политики…
— Политики, имеющие дело с политиканами! — прервал его Спирос.
— Старые партии обанкротились. Они разоблачили себя в глазах народа и тем самым вырыли себе могилу.
— Да, — засмеялся Спирос. — Но если кто-нибудь протянет им руку, они вылезут оттуда.
Тогда Ставрос наклонился и взял его за локоть.
— Пока им протянут руку, Спирос, они будут уже погребены. Народ, который они предали, раскусил их и больше за ними не пойдет.
На этом закончилась в тот вечер их беседа.
IX
В ту ночь, когда они закончили работу над брошюрой, неожиданно явился Спирос. Он приехал с последним автобусом и, запыхавшись, вбежал в дом — комендантский час давно наступил.
— Рано спать, рано! — сказал Спирос, снимая пальто. — Вы тут только и делаете, что спите. Сегодня вам придется сделать исключение.
В нескольких словах он объяснил суть дела: завтра ЭАМ организует большую демонстрацию, цель — срыв принудительной мобилизации, которую уже давно готовили немцы.
— Это будет не обычная демонстрация, — говорил Спирос. — Мы дадим настоящий бой. От завтрашнего дня зависит слишком многое. Немцы уже приготовили приказ о мобилизации, и для нас это вопрос жизни и смерти. Организация получила сведения, что правительство предателей подписало приказ и отослало его для опубликования в правительственную газету… Стало быть, друзья мои, нам придется сегодня бодрствовать. Выходной переносится на завтра, когда мы все как один пойдем засвидетельствовать свое почтение Логофетопулосу{[59]}, а потом выпустим чрезвычайный номер «Свободы».
Спирос сел за свой столик, Бабушка и Янна начали набирать тексты, которые он принес с собой. В подвале закипела работа. Прежде чем печатать, Космас прочитал прокламации.
«Греки, — говорилось в первой, — остановите смертные казни! Всеми средствами боритесь против террора! Боритесь за народные столовые и повышение заработной платы! Укрепляя и расширяя ряды ЭАМ, завоюем жизнь и свободу. На расстрелы, на принудительную мобилизацию ответим непокорностью, всеобщей забастовкой, сопротивлением и партизанской войной».
Спирос уже приготовил маленькие листовки, На одной из них Космас увидел стихи Паламасаз
Земля порабощенная, восстань!
Воспрянь, Канариса{[60]} Эллада!
На другой были стихи Ригаса:
Пусть лучше час свободы нам суждено прожить,
Чем сорок лет в неволе жизнь рабскую влачить!
На остальных листовках — короткие лозунги:
«Хлеба! Свободы!»
«Смерть фашистским убийцам и их приспешникам!»
«Столб с перекладиной, огонь и топор предателям!»
«Греки тысячу раз предпочтут умереть, чем пойти на службу к фашизму!»
Ночь пролетела быстро. Только на рассвете они закончили печатать и стали упаковывать прокламации. Получилось четыре больших пакета. По одному на каждого.
Первым, когда соседи еще спали, вышел Спирос. Чуть позже ушла бабушка.
* * *
Было часов девять, когда Космас и Янна доехали на автобусе до улицы Академии. Они занесли пакеты в кафе к Георгису и спустились к площади Омонии. Космас думал, что в городе уже начались волнения, и был разочарован, когда увидел обычную будничную картину.
— Не торопись, — говорила Янна, — через полчаса все придет в движение. Пойдем-ка лучше на площадь Канингоса.
На площади Канингоса было спокойно. Но ровно в десять сюда со всех улиц стали стекаться группы демонстрантов. В несколько минут они заполнили всю площадь. Неподалеку от Космаса над толпой поднялся человек в крашеном солдатском кителе и начал речь:
— Правительство предателей подписало приказ о мобилизации…
Со всех сторон послышались крики: «Смерть предателям!» Они заглушали голос оратора. Но тот продолжал говорить и жестами призывал собравшихся к порядку. Наконец гул толпы немного стих. Оратор сказал, что намерения немцев и их греческих сотрудников ясны. Фашисты на всех фронтах терпят поражение. Восточный фронт уже стал могилой гитлеризма. Удары Красной Армии и бомбардировки союзнической авиации каждый день доставляют на кладбища и в госпитали тысячи вражеских солдат. Фашистское чудовище истощено, оно истекает кровью и уползает в свое логово. Ему нужны оборонительные сооружения, нужны рабочие руки. Вот в чем цель мобилизации, которую они уже сумели навязать народам в ряде оккупированных стран. Теперь они хотят навязать ее Греции.
— Но в Греции у них ничего не выйдет! Они не смогли послать ни одного грека на русский и другие фронты. Ни один грек не пойдет на строительство оборонительных сооружений. Греки воюют против фашизма! Мы первыми поднимаем знамя борьбы против принудительной мобилизации! И только победа положит конец этой борьбе. Ничто не может нас устрашить. На попытки навязать нам мобилизацию мы ответим всеобщей забастовкой, сопротивлением и партизанской войной!
Янна показала в сторону улицы Академии. Оттуда несли греческое знамя. В первый раз бело-голубое полотнище свободно развевалось на улицах города! За знаменем колыхался огромный плакат. На нем большими буквами был написан лозунг, который Спирос и его помощники печатали ночью: «Греки тысячу раз предпочтут умереть, чем пойти на службу к фашизму!»
В центре площади подняли на руки человека с рупором. Он крикнул:
— Внимание! Внимание! Все в министерство труда!
В министерстве хранились списки мобилизованных.
— В огонь!
— Поджечь министерство предателей!
Площадь зашевелилась. Зазвучали песни. В рупор снова кричали:
— Внимание! Внимание!
Передние ряды остановились, задние стали напирать на них. Началась толкотня.
— Знамя вперед! — крикнули в рупор.
Ряды расступились, и знаменосца пропустили вперед. За ним проследовали большой плакат и целое море маленьких флажков и красных полотнищ с лозунгами. Шествие двигалось вперед.
Лицо Янны горело. Она поднималась на цыпочки, стараясь охватить весь людской поток.
— Жаль, что у нас нет плаката! — сказала она Космасу.
Возле них какой-то мальчик старался пробиться через толпу. В одной руке он держал большой красный плакат, свернутый в рулон. Этот плакат мешал ему пробраться вперед.
— Куда ты несешь его, товарищ? — спросил Космас.
— Я потерял своих! — с досадой сказал мальчик. — Помогите мне пройти.
— Дай мне плакат, и тогда пройдешь!
Мальчик с обидой посмотрел на Космаса.
— А что ты делал ночью? — спросил он. — Спал? Ну вот. А я всю ночь писал…
— Раз так…
Космас посторонился, парнишка протиснулся и скрылся в толпе. Но прошло немного времени, и они снова столкнулись. Парнишка был красен, как рак, и пыхтел от натуги: плакат был слишком велик для него.
— Ну как, не нашел еще своих? — спросил Космас.
Мальчик не ответил. Он сделал еще одну безуспешную попытку пробиться вперед и, отчаявшись, обернулся к Космасу:
— Знаешь что, товарищ? Бери пока плакат, но если я разыщу своих, ты мне его отдашь. Идет?
Космас развернул плакат. Это был кусок материи, прикрепленный к деревянным планкам. За одну планку взялась Янна, за другую Космас. Белой краской, очень неровными буквами — большими вначале, крохотными в конце — на плакате были написаны две первые строки национального гимна:
Узнаю клинок расплаты,
Полыхающий грозой{[61]}, —
а с краю большими буквами: «ЭАМ».
Космас обернулся. На мгновение он увидел мальчика, промелькнувшего в толпе, но тотчас же потерял его из виду.
Колонна вышла к красному зданию министерства.
У министерства уже завязался бой. Здание было оцеплено, вокруг него в несколько рядов стояли немецкие солдаты и итальянские карабинеры. Первые шеренги демонстрантов несколько раз пытались прорвать их цепь и выйти к зданию, но не сумели. Немцы отбросили их ружейным залпом. Между солдатами и народом образовалась мертвая зона, на которой остались лежать первые раненые. Но демонстранты не отступили. Всюду колыхались знамена и плакаты, звучали песни. Ораторы призывали народ к новой атаке.
Тот самый человек в солдатском кителе, который выступал на площади Канингоса, снова говорил, поднявшись на плечи товарищей. Его не было слышно, и тогда он взял рупор. Несмотря на то что гул толпы заглушал его голос, все понимали, о чем он говорил. Каждый сознавал: если они отступят, мобилизация станет реальностью. А чтобы выиграть этот бой, нужно захватить здание и сжечь списки.
X
— Пойдем вперед! — сказала Янна. — Сейчас начнется наступление…
Космас попытался проложить в толпе дорогу. В это время кто-то дернул его за пиджак.
— Эй, товарищ! Товарищ!
Его обступила стайка мальчишек. Среди них тот, который дал ему плакат.
— Ну как, нашел своих?
— Дай лозунг!
Космас свернул плакат и протянул его мальчишкам.
— Что вы с ним будете делать? — спросила Янна.
— Мы его повесим!
— Где?
— Мы уже нашли место. Оттуда будет видно всем.
Приближалась критическая минута. Обстановка становилась все напряженнее. По-прежнему звучали песни и лозунги. С улиц непрерывно прибывали новые колонны.
На носилках проносили раненых. Люди вооружались палками, досками и булыжниками.
Янна и Космас пробились в первые ряды. На расстоянии нескольких метров от них виднелись каски немецких солдат. Карабинеры окружили здание. Из окон министерства и соседних домов торчали дула автоматов.
Вокруг наступила тишина, и донесся чей-то негромкий голос.
— Это Ставрос! — сказала Янна. — Пойдем!..
Но пройти было невозможно. Космас повис на плечах мужчин, стоявших впереди. Ставрос говорил не торопясь и так спокойно, словно находился у них в подвале типографии:
— Сейчас нам нужно мужество. Мы должны идти вперед. Ни шагу назад, вперед и только вперед, пока не захватим здание министерства. Немцы будут стрелять в нас, но мы не должны останавливаться, даже когда рядом упадет наш товарищ. Наша цель — разгромить министерство рабства!
Он повернулся и пошел к министерству. Прокладывая дорогу локтями, Космас догнал оратора с площади Канингоса.
— Отойдите назад, товарищ, — сказал ему оратор, — впереди пойдем мы…
Но Янна крикнула:
— И мы тоже!
Ставрос, шагавший в нескольких шагах от них, услышал ее слова, оглянулся, но ничего не сказал.
Над колоннами взмыли знамена. Нарастали крики, взлетали плакаты и кулаки. Толпа напирала. Решающая минута близилась. Десятки голосов подхватили призыв Ставроса:
— В министерство рабства!
— Ни шагу назад!
Послышались выстрелы. Космас услышал голос Янны:
— Посмотри, Космас, посмотри!.. Вон там! Ребята с лозунгом!
В мертвой зоне, образовавшейся между немцами и демонстрантами, показались знакомые им ребята. Впереди бежал мальчик со свернутым плакатом. За ним цепочкой, держась за руки, спешили остальные. Они бежали к министерству.
— Они хотят повесить плакат на здании министерства! — крикнула Янна.
Ребята пересекали мертвую зону.
Криками и жестами немцы пытались прогнать ребят, Потом, когда это не удалось, навели на них автоматы.
Из толпы раздались крики: «Не смейте!» — но оккупанты уже открыли огонь. Одновременно раздались выстрелы из окон и с балконов. Мальчик, бежавший впереди, всплеснул руками и упал рядом со своим плакатом.
Крики перешли в рев:
— Проклятие убийцам!..
Лавина людей устремилась к министерству. Непрерывно строчили автоматы. Вместе со всеми бежал и Космас. Рядом с ним схватился за грудь человек в солдатском кителе и ничком упал на мостовую. Это был оратор. Ставрос пробивался вперед…
* * *
Космас уже ничего не различал. Выстрелы, крики, лозунги, знамена, люди — все смешалось. Вдруг его взгляд упал на Янну, вцепившуюся в лицо немецкому солдату. Что было силы Космас ударил солдата по голове. Путь был открыт.
В этот момент на лестнице министерства показался Ставрос. Космас побежал к нему.
Итальянец с пером на пилотке, охранявший дверь, спрыгнул во двор. Где-то рядом крикнули:
— Браво, колонело!
Между тем Янна исчезла из виду. Космас замедлил шаги и стал громко звать ее, но сзади его толкнули.
— Проходи! Проходи!
Он вошел в дверь. Одни бежали по коридорам, другие поднимались по лестнице, взламывали запертые двери, срывали их с петель, врывались в кабинеты. В глубине коридора Космас заметил Янну. Он кинулся за ней.
Янна в растерянности стояла посреди кабинета, не зная, что делать.
— Спички! — крикнул Космас. — У тебя есть спички?
Он выскочил в коридор и наткнулся на Ставроса.
Космас с трудом узнал его — так Ставрос был избит и окровавлен.
— Спички, товарищ Ставрос!
— Эдак ты и в бой пойдешь без ружья! — сказал Ставрос и вынул коробок спичек.
Янна выхватила коробок у него из рук.
У стены стояли два больших шкафа. Космас попробовал их открыть. Они были заперты. Кто-то выбил дверцу ударом ноги. Янна подожгла бумаги.
Второй шкаф уже горел.
Космас выглянул в окно. Всюду, куда только доставал взгляд, чернело людское море. Немцев не было видно ни на улице, ни в окнах, ни на балконах.
— Убежали! — крикнул Космас.
Ставрос тоже высунулся в окно.
— Их прогнали! Их прогнал народ!
Он стоял и смотрел на безграничный волнующийся людской океан. По площади, танцуя, шли демонстранты.
Космас снова услышал голос Ставроса. Он говорил тихо, как бы продолжая давно начатый разговор:
— Такой народ не может не победить. Только малодушный не верит в победу народа.
Комната наполнилась дымом. Они вышли в коридор. Там нечем было дышать от гари.
— Скорее на улицу! — крикнул им Ставрос.
Но сам не пошел с ними, а повернул налево и стал подниматься по лестнице.
Во дворе появились санитары, подбиравшие раненых. С улицы донеслись гудки пожарных машин.
Спускаясь по лестнице вместе с Янной, Космас столкнулся с каким-то стариком. Он сразу же узнал его, И вспомнил первые дни, когда он, одинокий и отчаявшийся, метался по чужому городу. Космас окликнул старика:
— Господин Марантис!
Старик ласково улыбнулся.
— Нет, не господин, — сказал он, — сегодня я не господин. Сегодня я тоже товарищ!
Марантис был растроган.
— Я такой же товарищ, как все они, — и он протянул дрожащую руку в сторону площади.
Потом повернулся к Космасу и стал вглядываться в его лицо.
— Я однажды был у вас дома, — помог ему Космас. — Я искал другого Марантиса, министра…
— Да? — рассеянно сказал старичок. — Я вас не помню. Многие приходили ко мне и спрашивали министра. Спрашивали и — увы — до сих пор все еще спрашивают! И нигде его не находят! Да, да! Потому что он отступник! Гнусный отступник!
Он посмотрел во двор, на площадь, где ликовали демонстранты, и его глаза наполнились слезами.
— Благодарю! Благодарю тебя, боже, что ты удостоил меня узреть это чудо! Теперь я верю в твою силу.
XI
Янна была счастлива. Ничто не ускользало от ее внимания. Она становилась на цыпочки, взбегала на тротуар, чтобы лучше видеть, и все время рассказывала Космасу о том, что ей пришлось пережить. Она запомнила массу подробностей штурма. Еще до того, как демонстранты схватились с немцами, карабинеры нарушили строй и побежали, а когда колонна бросилась вперед, замолчали автоматы в окнах и на балконах — автоматчики боялись попасть в своих. Больше всего Янна восхищалась Ставросом. Она видела, как он дрался с немцами и как одним из первых ворвался в здание. Какой-то немец стрелял в него с нескольких шагов, но не попал, и его подмяла нахлынувшая толпа. Не скрывала Янна и своего восхищения Космасом. «Если бы не ты, — говорила она, — немец задушил бы меня». Космас смутно припоминал эту сцену.
— Я помню только, что ты вцепилась в него, словно кошка.
— Это он первый схватил меня. Он схватил меня за горло. И если бы не ты…
Немного погодя Янна спросила его:
— Хочешь, я тебе что-то скажу? — Голос ее звучал тихо и ласково.
Космас повернулся и посмотрел на нее. Они шли по краю мостовой.
— Не обижайся, но этого я от тебя не ожидала.
— Чего ты не ожидала, Янна?
— Ну, что ты так будешь себя вести.
— Вот как?
— До сегодняшнего дня я бы этому не поверила.
— Я знаю! — со смехом ответил Космас. — В самом деле, чего можно ждать от какого-то мелкого буржуйчика…
Янна прервала его движением руки:
— Да нет, я не то хотела сказать. — И покраснела.
Их руки соединились. Космас сжал пальцы Янны и вздрогнул, ощутив теплоту ее руки.
Но пожатие длилось всего мгновение. Янна резко высвободила руку и ускорила шаг.
* * *
Они подходили к кафе, когда заметили большую колонну демонстрантов, спускавшуюся со стороны Эксархии. Они побежали ей навстречу.
Вся улица Фемистокла была заполнена людьми. Сюда стекались тысячи демонстрантов со знаменами и плакатами.
— Куда это они снова идут? — спросил Космас.
Старуха, шагавшая в колонне демонстрантов, ответила:
— Во дворец! — И взмахнула кулаком. — Во дворец предателей!
Космас повернулся к Янне.
— Пойдем, — сказала она. — Или лучше проберемся через колонну и по улице Академии выйдем к университету.
Но пробиться к университету не удалось. Улицы были перекрыты полицейскими и итальянцами, перегорожены немецкими автомобилями. Космас и Янна забрались в академический сад.
По улице Синаса галопом промчался эскадрон итальянской конницы. Карабинеры наступали, обнажив штыки. Не доходя до колонны, итальянцы начали стрелять в воздух, стараясь посеять панику среди демонстрантов. Переполненная народом улица бурлила, как река, русло которой внезапно перекрыли. Демонстранты прижимались к стенам, отступали в переулки. Колонна распалась на два потока. Карабинеры врезались в толпу, над головами вздымались их штыки, а потом исчезли и карабинеры, и штыки, и лошади, будто всех их проглотила лавина. Колонна снова соединилась и продолжала свой путь.
В колонне запели. Эту песню знали все. Матери пели ее над колыбелями своих младенцев, потом, став учениками, дети сами пели ее в школе, чтобы позже научить ей своих собственных детей и внуков. Это была песня, верно передававшая национальный характер.
Рыба не живет на суше,
Не цветет цветок в пустыне,
Так и женщинам из Сули
Без свободы жизнь постыла!{[62]}
Космас почувствовал, как Янна толкнула его рукой.
— Бабушка! Бабушка Агнула! — воскликнула она. Бабушка Агнула с греческим флажком в руке шла первой в ряду танцующих. Космас видел, как склонялось и выпрямлялось ее старческое тело, как она помахивала флажком. Казалось, это древняя сулиотка благословляла свой народ, продолжающий борьбу.
— Молодец! Молодец, бабушка, — кричали ей.
Космасу хотелось выбежать вперед и танцевать рядом с бабушкой. Им овладело желание совершить великий, небывалый подвиг, сделать что-то такое, что вновь привело бы в движение это людское море.
* * *
Немцы с автоматами в руках стояли в несколько рядов поперек улицы Гомера. Все было точно так же, как утром у министерства труда. Только теперь впереди колонны выстроились коляски инвалидов греко-итальянской войны. Одни держали флажки, другие повесили на грудь маленькие плакаты с лозунгами: «Хлеба и свободы!», «Долой мобилизацию!», «Греки не покорятся фашизму!», «Свой ответ фашизму мы дали в горах Албании!»
Космас сошел на мостовую и стал пробираться между колясками инвалидов. Но тут к нему подбежала Янна.
— Куда ты? Куда ты?.. — крикнула она.
То, что он делал, и в самом деле было бессмысленно. Впереди, между инвалидами и рядами немцев, лежало пустое пространство. Янна схватила Космаса за руку и потащила назад. Он слышал, как дрожит ее голос. Наконец-то в ее взгляде он увидел то, чего так долго ждал! В тяжелые минуты, когда Космас с горечью сознавал, что Янна его не любит, она представлялась ему холодной и безразличной. И тогда он думал, что, возможно, та жизнь, которую вели она и ее отец, преждевременно иссушила ее душу. Фанатическое служение революции, опасности, невзгоды, непосильные для ее возраста, погасили в ней естественную потребность в человеческих радостях, и она отказалась от них, как когда-то это сделал ее отец. Янна вступила в борьбу, которая требовала сильных рук и зрелого ума. Они были сверстниками, но до сих пор, находясь рядом с Янной, Космас чувствовал, что она взрослее и сильнее его. Это было уже не то слабое и нежное существо, которое будило в нем любовь и вызывало желание защитить. Янна во всем была решительнее и отважнее Космаса. Сегодня утром она шла впереди, а Космас покорно следовал за ней. И только сейчас в ее голосе он услышал то, что так давно хотел услышать, — волнение и страх за него; только сейчас он увидел в ее взгляде тревогу и заботу о нем. Ее грудь порывисто вздымалась и опускалась, как у испуганной птицы, губа была прикушена, а черные глаза с мольбой смотрели на него. В эту минуту ему захотелось взять ее на руки и поцеловать в губы.
— Иди сюда, — сказала Янна. — Здесь мой отец.
Перед большими железными воротами стоял Спирос.
Вокруг него собрались демонстранты. Спирос говорил:
— Здесь одной отвагой не возьмешь. Необходимо маневрировать. Мы нападем на них с тротуаров. Инвалиды постепенно начнут отступать и соберутся в середине улицы. А мы займем их прежнее место. Нужно прорваться к дворцу предателей.
Он оглядел товарищей и взмахом руки разделил их на две равные группы.
— Вы, товарищи, — сказал он второй группе, — пробирайтесь на противоположный тротуар. Мы должны напасть на врага одновременно с двух флангов. Когда у вас все будет готово, подайте сигнал флажком. Остальные пойдут за мной.
Заметив Космаса и Янну, он улыбнулся, помахал им рукой и крикнул:
— Идите сюда!
А потом пальцем подозвал Космаса и сказал ему на ухо:
— А ты, Космас, смотри в оба. Я хочу, чтоб сегодня вечером ты отличился как журналист.
Инвалиды стали съезжаться на середину улицы. Тогда демонстранты хлынули на мостовую и заполнили все пространство между немцами и инвалидами. Два потока соединились.
Спирос сделал знак рукой, Первые ряды демонстрантов бросились вперед…
XII
Увидев надвигающуюся на них лавину демонстрантов, немцы отошли в переулок, под прикрытие танков и бронемашин.
Путь был открыт, и колонна двинулась дальше, когда из-за спин расступившихся немцев, итальянцев и полицейских показались два немецких танка. Они шли прямо на демонстрантов и поливали их огнем.
Люди снова прижались к тротуарам. На опустевшей мостовой остался лишь один знаменосец. Это был высокий мужчина с непокрытой головой. Он был ранен. Знамя качалось в его руках.
На него с грохотом надвигались гусеницы первого танка. Еще немного, и они подмяли бы под себя знаменосца вместе со знаменем.
— Знамя! — крикнули тысячи голосов.
Знаменосец упал на колени. Знамя наклонилось.
От толпы отделилась белокурая девушка. Космас увидел ее в то мгновение, когда она подбежала к знаменосцу. На ней было белое платье, пышные волосы струились по плечам. Девушка наклонилась, чтобы подхватить знамя. Из башни танка раздалась короткая очередь. Девушка выпрямилась и обеими руками схватилась за грудь. Пошатываясь, она сделала несколько шагов в сторону, но тотчас же вернулась и встала около знамени, стараясь удержаться на ногах. На белом платье выступили пятна крови.
Толпа бросилась на помощь девушке. Но было уже поздно. Загрохотали гусеницы танка, белое платье исчезло под ними…
Космас видел это своими собственными глазами, но ему казалось, что все происходит в дурном сне. Тем временем какая-то худенькая женщина в черном подбежала к танку и вскарабкалась на него. Одной рукой она ухватилась за приподнявшуюся крышку танка, другой сорвала с ноги ботинок и с размаху ударила высунувшегося из люка танкиста.
Раздался выстрел. Рука, державшая ботинок, на какое-то время задержалась на железном боку машины, в то время как другая, все еще сжимавшая бумажный флажок, взмахнула им в последний раз и упала.
Янна смотрела на Космаса глазами, полными ужаса.
— Бабушка! — крикнула она. — Это наша бабушка!..
Внезапно знамя снова взмыло над толпой. Его поднял и понес какой-то юноша. Но вскоре его ранили, и он, вскрикнув, выронил знамя.
Космас нагнулся, поднял его и, крепко сжимая древко, рванулся вперед. Гусеницы первого танка прогрохотали где-то совсем рядом. Но едва он сделал несколько шагов, как оказался прямо перед вторым танком.
Космас увидел надвигающиеся на него гусеницы, бросился в сторону и почувствовал, как его ладонь разжимается. Знамя падало из рук. Он пытался удержать древко левой рукой, но не смог. Знамя подхватили другие. Космас видел, как полотнище знамени плывет над толпой где-то далеко впереди. Правая рука вдруг стала тяжелой, рукав намок от крови. Голова кружилась, колени подгибались. Янна поддерживала его.
К ним подбежала незнакомая женщина.
— Ничего, сынок, ничего, — сказала она, — не бойся.
Эта женщина и Янна подвели его к тротуару, сняли пиджак и перевязали рану.
— А теперь, дочка, — сказала женщина, — отведи его осторожно на улицу Академии. Там наши санитары.
Янна была растерянна. Она старалась сдерживаться, но нервы ее сдали, и она разрыдалась.
— Глупенькая! — уговаривал ее Космас. — Ну что ты плачешь? Ведь все в порядке, видишь?
Ободряя ее, он забыл о боли. Кажется, и в самом деле рана была не очень серьезной. Головокружение прошло, Космас пошевелил пальцами — они двигались так же, как и на здоровой руке.
— Вот видишь, — сказал он снова, — ничего страшного. Посмотри-ка.
И он медленно поднял раненую руку. Черные брови Янны сдвинулись. Она следила заплаканными глазами за движением его руки.
— Ну вот… Ничего страшного…
Путь к площади Конституции был уже свободен, и колонна двигалась спокойно.
— Все в порядке, — повторил Космас. — Пойдем и мы. Не оставаться же нам посреди дороги.
— А ты сможешь, Космас?
— Смогу, Ты только иди с той стороны, чтобы меня не толкали.
Одну руку Янна просунула ему под мышку, другой поддерживала кисть.
— Больно? — спрашивала она на каждом шагу. — Очень больно?..
И ее рука сжимала его пальцы.
* * *
Все пространство перед дворцом было забито народом.
Когда они вышли на площадь Конституции, люди плакали, целовались, танцевали вокруг памятника Неизвестному солдату.
— Что произошло? — спросил Космас.
— Митрополит объявил, что мобилизации не будет. Декрет отменен. Правительство предателей пало!
— Теперь в него войдут новые предатели, — сказала одна из женщин.
Старичок с белой бородкой высоко поднял палец.
— Конец предателям! — произнес он торжественно. — И конец предательству!
Развевались знамена. Взлетали в воздух плакаты, шляпы, платки.
И вдруг толпа упала на колени. Глубокая тишина воцарилась над огромным пространством площади, будто она вдруг вымерла. И словно откуда-то издалека поплыла медленная, скорбная мелодия. Толпа пела, и трагическая мелодия звучала все сильней:
Вы жертвою пали в борьбе роковой…
Космас слышал эту песню впервые. И когда слова песни схватили его за душу и ему открылся их смысл, теплая волна обволокла все его существо, В первый раз за все эти дни он дал волю слезам.
* * *
Теперь их осталось только трое. Наборная верстатка бабушки лежала на ящике со шрифтом — она положила ее туда прошлой ночью. Здесь же лежало и ее старинное пенсне в тонкой оправе, пожелтевшей от времени, с дужкой, обвязанной для прочности черной ниткой.
Спирос сразу же занялся Космасом. Он размотал повязку и обмыл рану. Пуля едва не задела кость, белевшую в ране, как яичный белок.
В тот вечер работали только двое — отец и дочь. Они готовили к печати короткий бюллетень о событиях дня. Космасу работать не разрешили. Спирос запретил ему даже подходить к прессу, пока не заживет рана.
Но Космас сел к столу и набросал несколько сцен демонстрации. Он прочитал их Спиросу, и тот остался доволен. В конце Космас привел слова Ставроса, которые тот произнес утром в министерстве труда: «Только маловерный после сегодняшнего триумфа может сомневаться в конечной победе. Нет силы, которая могла бы сломить наш народ».
— Правильно! — сказал Спирос. — Принимается единодушно.
Он взял верстатку, и его руки заходили ходуном.
— Но есть одно условие, Космас. Космас вопросительно посмотрел на него.
— Какое, Спирос?
— Мы должны смотреть в оба. Нам еще рано упиваться победами.
XIII
Без бабушки стало гораздо труднее. Соседям сказали, что она уехала в провинцию к своим родственникам, а оттуда приедет погостить ее сестра. В дальнейшем госпожа Иоанну должна была заболеть, и ее приезд будет оттягиваться до тех пор, пока не настанет время покончить со всем этим мифом.
Таким образом, с соседями все было улажено. Но большие трудности возникали в самой работе. Бабушка набирала почти все тексты типографии. Несмотря на свои семьдесят лет, она не знала устали и за один вечер могла набрать всю газету. Чтобы ее заменить, требовалось по меньшей мере два человека. Только сейчас они поняли до конца, что значила для них бабушка…
А тут еще и ранение Космаса. Утром, уходя из дому, Спирос переменил ему повязку. Весь день и вечер Космас оставался один. Когда стемнело, он спустился в подвал, прослушал несколько передач, а потом встал к прессу. Ему хотелось закончить прокламации, выпуск которых они уже несколько дней задерживали. Поднялся он из подвала очень поздно и, раздеваясь перед сном, увидел, что повязка набухла от крови. Рана открылась. Космас не снял старых бинтов, а только наложил поверх повязки несколько платков.
Когда на другой день он проснулся, рука горела. Он попробовал двинуться, но ощутил неодолимую тяжесть во всем теле. Попробовал приподняться на кровати, но тут же снова упал на подушки. Все прыгало у него перед глазами, он ни на чем не мог сосредоточиться. Некоторое время Космас не шевелился: во рту пересохло, щеки горели, кости ныли. Он говорил себе: «Нужно встать» — и не мог. То впадал в забытье, то, очнувшись, ловил себя на мысли, что не хочет вставать. И, ослабев, отказался от всего — от мыслей, от усилий. Он почувствовал, что силы оставляют его.
Космас снова впал в забытье. Сознание на время покидало его, но немного погодя возвращалось, и он вспоминал, что надо подниматься. Перед глазами вращалась карусель, и он с любопытством наблюдал за ней. Теперь Космас не чувствовал ни ноющего тела, ни покалывания в глазах, ни боли в руке. Он был в глубоком обмороке, и его очень забавляла карусель. Самая настоящая карусель, которая вертелась, ни на минуту не останавливаясь. Один конек на карусели был с красным бочком, и Космас ждал, когда он покажется. Потом он ощутил стук в висках. Сначала тихий, потом сильный и быстрый. И вместе с этим стуком убыстрялись повороты карусели, красный бочок коня мелькал все чаще, он уже полыхал, как огонь, и вертелся, вертелся… Потом среди этого пламени возникли ее глаза, а потом он увидел ее всю.
Янна… Только о ней он и вспоминал все то время, пока был без сознания.
* * *
Потом в темноте появились новые лица. Первой возникла тусклая фигура в очках. И когда Космас увидел ее, он понял, что болен. Он хотел им сказать, что они обманулись. Но они не верили ему, и он забеспокоился. Он попросил, чтобы они выслушали его. Они умолкли. И тогда в полной тишине он начал им объяснять…
…Однажды его тоже приняли за больного. Отец пригласил врача. А ему совсем не нужен был врач. Ведь он и тогда был совершенно здоров. Но явился доктор, старик Стергиос, в очках, и принялся колоть его в мягкое место. Каждый божий день. Превратил его мягкое место в решето. До того старательный был старик! «Стоп! — сказал ему однажды Космас. — Ни одного укола больше», Тогда хитрый Стергиос нашел способ его утешить.
Он взял карандаш и написал на стене: «Девяносто шесть — и ни одного больше». В тот день он сделал девяносто шестой укол. И ни одного больше. Потом Космас поправился. «Видите, — говорил он врачу, — я же с самого начала знал, что здоров. А вам, чтобы понять это, понадобилось сделать девяносто шесть уколов…»
Они внимательно слушали его.
И вдруг тусклая фигура в очках начала содрогаться от сильного, но беззвучного смеха. Они, кажется, снова ему не поверили!
— Да вы посмотрите на стену! — сказал он им. — Посмотрите!
Но никто не стал смотреть. Даже Спирос.
Янна все время стоит в дверях. Стоит и держится за притолоку, как будто сейчас разразится землетрясение. Он манит ее рукой: «Иди сюда». Она подходит. «Садись». Садится.
Как быстро ты забываешь, Янна! Ты все забыла. Скажи мне, но только говори правду. Подойди поближе, нагнись. Ты тогда любила меня, Янна? Любила? Только скажи правду! Ты должна была меня любить, потому что я тебя очень любил. Я сейчас скажу тебе кое-что, я никому еще не говорил об этом… Помнишь, как ты потеряла свою фотографию, на велосипеде? Это я ее взял. Фотографию и тетрадку с сочинениями. Я сохранил их. И где бы, ты думала? Ни за что не отгадаешь! В ларце для свадебных венков отца и матери. Они и сейчас там, И фотография, и тетрадь…
Фигура с очками по-прежнему стояла над ним. Но он еле различал ее. Казалось, он видит ее сквозь запотевшее стекло.
Потом туман исчез и стекло прояснилось. Но медленно-медленно.
В какое-то мгновение Космас ясно почувствовал, что над ним склонился человек. Он проснулся и увидел — человек сидит на краю постели.
Человек улыбнулся.
— Вот и разбудили!
Космас часто заморгал ресницами.
— А? — попробовал он подняться. Человек положил ему ладонь на лоб.
— Лежи! — сказал он. — Мы разбудили тебя своим разговором.
Космас некоторое время молча смотрел на него. Потом спросил:
— А что я вам говорил?
Ему ответили из глубины комнаты:
— Ну и много же чепухи ты намолол, чертушка!
Космас повернулся.
В углу стоял Спирос. Губы его растягивались в улыбке…
— Да, слово не воробей! — улыбнулся и Космас.
Он огляделся. Больше никого в комнате не было. А ведь должен же быть еще один человек. Потом он устал думать. Веки тяжелели. Космас попробовал снова приоткрыть глаза и не смог.
* * *
Когда он проснулся, на столе горела лампа. Он обвел комнату глазами — ни души.
И вдруг до его ушей долетел знакомый звук. Двигались по станку валики пресса. Космас поднял голову, В углу он увидел вынутые половицы. На стену из подвала падал электрический свет.
Космас хотел позвать Янну. Нет, лучше встать самому. Он отбросил одеяло и поставил ноги на пол. Голова закружилась, в ушах сразу же зазвенели колокольчики. Он снова опустил голову на подушку и глубоко вздохнул, вбирая воздух всей силой легких.
И, ожидая, когда пройдет головокружение, Космас увидел ее. Она поднималась по ступенькам. Над полом показалась ее голова; она смотрела на него.
— Янна!
Она подбежала на цыпочках, встала на колени возле его кровати и взяла его руки в свои. Ее глаза были такими, какими он ожидал их увидеть, — радостными и любящими.
— Янна!
— Не разговаривай! — сказала она. — Нельзя!..
Она протянула руку и приложила два пальца к его губам.
— Вот так!
Потом Янна положила руку ему на лоб. — Я ждала, Космас. Я знала, что сегодня ты очнешься…
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
— Как тебя зовут?
— Гречанка!
Электра Апостолу{[63]}
I
В тот день, когда Космас снова приступил к работе, они получили пополнение в лице Сарантоса, тридцатипятилетнего мужчины родом с Ионических островов. Он прекрасно знал свое дело, но обладал одним большим недостатком — уставал быстро, как беременная женщина. Стоило ему часа два простоять за кассой, как он уже на целый день выходил из строя.
Но работа все-таки пошла успешней.
Сарантос принес в подвал новые привычки. Прежде всего весь дом наполнился дымом. Ноздри и рот Сарантоса вечно дымились, будто в легких у него топилась печь.
Другим новшеством был его лексикон. В речи Сарантоса смешались все жаргоны, которые он в совершенстве изучил за время своих странствий в ионических портах, в трущобах Пирея, в исправительных тюрьмах Касаветии. Руки Сарантоса были густо расписаны крестами и сиренами. На груди неизвестный мастер создал целую композицию на тему первородного греха — о том, как змий искусил Еву. Кем только не довелось ему побывать: лавочником и хозяином кабачка, владельцем игорного дома, лоточником, торговавшим сладостями на улице Афины («Я кормил магараджей баклавой и сизамоси с орехами»), кладовщиком водоснабдительной компании («Оттуда, товарищ Космас, я и попал прямой Дорогой в Касаветию»), сборщиком налогов на овощном рынке.
Одно время Сарантос был парикмахером в Амальяде, потом подвизался как учитель танцев где-то в Пинии. В перерывах между этими занятиями он успел поработать в типографии в Метаксургио.
* * *
В первый же вечер у Космаса и Сарантоса нашлись общие знакомые. Едва увидев его, Сарантос спросил:
— А ты случаем не работал в Псири, товарищ Космас?
— Да, я служил там в одном магазине.
— В изюмной лавке?
— Да.
— Стало быть, я не ошибся. Погоди-ка, как звали хозяина? — И он замолчал, роясь в памяти.
— Исидором, — сказал Космас.
— Не этого, а другого.
— Анастасисом.
— Вот-вот! Этот самый Анастасис — сволочь поганая!
— Откуда ты его знаешь?
Сарантос многозначительно ухмыльнулся.
— А почему схватили Исидора? Ты знаешь, почему его схватили?
— Сам виноват, — сказал Космас. — Пошел к ним и сдался.
— Это другое дело, а в чем причина? Из-за чего его взяли?
— Из-за какого-то склада.
— Из-за какого-то склада!.. Да на этом складе чуть-чуть не накрылся твой покорный слуга.
— Каким образом, Сарантос?
Космасу вспомнились магазинчик в Псири, Исидор, Анастасис, Манолакис и таинственная история со складом. В этот вечер он узнал новые факты, проливающие свет на это дело. Сарантос тоже оказался замешанным в него и был, как он сам говорил, «главным действующим лицом».
— …Так вот, товарищ Космас, целый год я заворачивал там всеми делами. Понатаскал туда всего, чего только моей душеньке хотелось, — от патронов до итальянских минометов. И каждый месяц я заходил в изюмную лавку и вносил покойному Исидору плату за аренду, Вот там-то я тебя и видел. Ты сидел за столиком с книгами. И вот в один прекрасный вечер, товарищ Космас, меня извещают, что склад выдали.
— А кто тебе сообщил?
— Кто сообщил? Да у организации всюду есть свои агенты!
Космас засмеялся.
— Ну, уж и агенты, Сарантос! Мы ведь не шпионская шайка.
— Я этого не говорил, товарищ Космас, чего ты так взвился? Ну, а когда мы перенесли оружие, то подумали: «А не задать ли нам жару этому предателю Анастасису?» Приходим мы утром в магазин…
— В изюмный?
— Туда, но только в тот день там случился страшный переполох.
— Вероятно, вы пришли в тот день, когда расстреляли Исидора?
— Вот так и повезло негодяю Анастасису, остался целехонек!
— Да его же потом ранили, Сарантос.
— Ерунда, царапина. Чуть задело грудь. Не пустили меня с ним расправиться, и вот теперь эта погань охотится за нами с агентами охранки.
— Анастасис?
— Ну конечно! Пошел на предательство в открытую. Отпетый черносотенец. И знаешь, товарищ Космас, кто у него первый палликар{[64]}? А ну, пораскинь-ка мозгами!
— Откуда мне знать!
— Да тот самый старик, что работал у вас в магазине.
— Ах, этот… — сказал Космас. — Он появился уже под конец. Его, кажется, Мемосом звали.
— Да не Мемос! Тот уже сыграл в ящик. Другой старик…
— Манолакис? Быть не может!..
— Что значит «быть не может»?
— Быть не может, — снова сказал Космас, — Ты что-то путаешь!
— Может или не может, а только это факт. Посмотрел бы ты на него теперь: разгуливает в мундире, немецкую кобуру прицепил — ну чистое пугало! Вот так, товарищ Космас…
* * *
Сарантос как будто нарочно явился, чтобы напомнить ему о том, о чем он уже стал забывать: в городе живут разные люди. Среди них есть и друзья, и враги. Несколько месяцев прошло с тех пор, как они с бабушкой Агнулой вырыли этот подвал, перешли на нелегальную работу. Они научились объясняться знаками и ходить на цыпочках. Все это время они жили как в осаде. Каждый день они чувствовали близость врага — за закрытыми ставнями, за стенами. Шаги соседки по устланному плитами проходу, ветер, завывающий в трубе, — все настораживало. Враг ждал своего часа. Они это знали.
Но никогда Космас не чувствовал его так близко, как в тот вечер, после разговора с Сарантосом. На этот раз Космас словно видел его в лицо. Он представлял его в образе Анастасиса, который охотится за ними по всем закоулкам. И прежде всего за Космасом. Ведь сказал же он тогда: «Ты у меня за это еще поплатишься». И Космас не забывал его угрозы.
С этого вечера он почувствовал, что опасность близка. Ему стало казаться, что она поселилась в их доме вместе с Сарантосом.
Как-то вечером Космас сказал об этом Спиросу. Но Спирос только засмеялся.
— Его направили к нам очень надежные товарищи, и ты не должен его подозревать. Если у тебя, конечно, нет конкретных данных.
— Откуда они у меня? Просто не нравится он мне, вот и все.
— Так нельзя, Космас. Нельзя подозревать людей только потому, что они тебе не нравятся.
— Но, товарищ Спирос, что можно ждать от человека, который смотрит на организацию как на шпионскую шайку?
Спирос возражал. Нельзя судить о людях предубежденно, нужно постараться понять их. Человека не изменишь за один день. Его не перевоспитаешь и за несколько месяцев. Нужны годы. И не один, не два. Таких, как Сарантос, тысячи. Капиталистическое общество выжало из них все соки. И движение должно не толкать их дальше в пропасть, а перевоспитывать. Это не всегда возможно, есть, конечно, и неисправимые люди. Но наше движение так перерождает душу человека, что и Сарантос переродится и найдет свое место в нашей борьбе, как нашли его другие товарищи. Сколько таких вот несознательных в прошлом людей оказались стойкими борцами и жертвовали своей жизнью! Нужно окружить Сарантоса товарищеской заботой.
И Спирос рассказал ему один эпизод из своей тюремной жизни:
— Это случилось в то время, когда вступил в действие особый закон. В эгинской тюрьме нас держали вместе с уголовниками. Был среди них один знаменитый бандит — Аридас. Осудили его на десять лет за какой-то грабеж, но в заключении он совершил еще два убийства, и тогда его присудили к пожизненному заключению. Но он и в тюрьме был некоронованным королем бандитов. В своих владениях Аридас не признавал другого закона, кроме поножовщины. Продавцы кофе, повара, игроки — все платили ему дань.
Среди коммунистов был у нас один адвокат из Коринфа. Когда-то он выступал на суде защитником Аридаса. И вот он взялся наставить разбойника на путь истины. Они вместе жили два года. И Аридас порвал со своим прошлым — отказался от дани, от драк и даже от своего чина главаря. В конце концов он ходил за адвокатом по пятам и умолял, чтобы его приняли в партию. Вот как оно бывает, Космас!..
II
В то утро Спирос, как всегда, ушел первым. Остальные упаковывали прокламации. Вышло три пакета.
В первый раз после ранения и болезни Космас отправился в город. Он нашел его сильно изменившимся. Спустившись по Университетской, теперь тихой и молчаливой, Космас подошел к тому месту, где ее пересекает улица Гомера. Вот здесь гусеницы танков раздавили русоголовую девушку, здесь убили бабушку Агнулу, здесь пролилась и его кровь. Сейчас люди торопливо шли по своим делам, и, наверно, никто из них не думал о том, что происходило совсем недавно на той самой мостовой, по которой они ступают. События того дня отошли в область воспоминаний, которые с течением времени заслонятся новыми впечатлениями, а потом и вовсе улетучатся. Неужели они, подпольщики, с такой же легкостью забудут эти дни? «Нет, — думал Космас, — когда настанет первый день свободы, те, кто доживет до него, водрузят над городом знамя победы. Их имена узнают и прославят миллионы людей. Но люди будут помнить не только победителей, но и тех, которые первыми подняли знамя и пали под пулями, тех, которые подхватили его из рук раненых и павших. Такое время настанет. Свобода на этот раз придет рука об руку со справедливостью, справедливостью для всех — малых и великих, живых и мертвых…»
Космас свернул на улицу Стадиу. С площади Конституции донеслась песня. Колонна грузовиков повернула и поползла вверх по улице. Люди, сидевшие на машинах, пели:
Самолеты немецкие —
раз-два! —
прилетают, —
демократам касторочку —
раз-два! —
доставляют.
Космас видел этих вояк впервые. Он заметил лишь их фески и ружейные дула, торчавшие над бортами кузова, отвернулся и пошел дальше. Прохожие тоже отворачивались — так когда-то избегали прокаженных. Но как они могли спокойно, равнодушно переходить перекресток улицы Гомера? Космас был оскорблен тем, что они не поклонялись освященной кровью земле. Бедняга Космас, не рано ли? Не рано ли ты взялся раздавать награды и возводить памятники?
* * *
Пакет с прокламациями он оставил в ателье на улице Гермеса и оттуда направился в кафе на улице Академии. Подойдя к кафе, он увидел, что все три двери его закрыты и около них толпится народ. Космас решил не входить.
Около получаса он бродил вокруг. Неподалеку, в переулке, была парикмахерская, в которой работал Петрос, один из членов организации пелопоннесцев. Завидев Космаса, Петрос сбросил рабочую блузу и вышел на улицу. Они встретились кварталом ниже.
Петрос сообщил дурные новости: схватили и владельца кафе, и того, кто принес прокламации. Этого человека взяли первым. Агенты следили за ним, подождали, пока он зашел в кафе, а потом арестовали и его, и владельца. Тот, другой, рассказывал Петрос, был высокий мужчина, с усиками и в кепке.
К чему описания? Космас и так знал, что это был Сарантос. Ему поручили отнести пакет в кафе Георгиса.
Космаса осенила мысль: Сарантос — предатель. Пусть Спирос говорит, что хочет, но Космас знает: Сарантос или предаст их, или уже предал.
Нужно немедленно известить Янну. Но Космас не знал, куда она понесла прокламации. Да к тому же, если Янна еще не вернулась домой, она наверняка уже на пути к дому. Она сойдет с автобуса и угодит прямо к ним в лапы. Космас ясно представил себе, как они рыщут по всему дому, перевертывают кровати, мебель, поднимают половицы, хозяйничают в подвале. Потом они устроят засаду у двери, притаятся и будут ждать…
Космас побежал к остановке автобуса.
Сначала он хотел постоять на остановке: может быть, Янна придет сюда? Но тут же переменил решение: пожалуй, лучше будет сесть в автобус, сойти за одну остановку от дома и подождать ее там. Нет, впрочем, это решение ничем не лучше первого: ведь Янна могла уже вернуться. И Космас решил отправиться прямо домой. Если ее там нет, он будет дежурить на остановке возле дома.
По дороге Космас стал обдумывать сложившуюся ситуацию. «А что, если Янна еще не приехала, — думал он, — но в доме уже засели враги, сидят и ждут, когда они появятся один за другим?» Но потом решил, что это вряд ли возможно. Сойдя с автобуса, он не заметил ничего подозрительного. На всякий случай, прежде чем войти во двор, Космас покружил возле дома и заглянул в сад. Все было спокойно.
Тогда он решил войти.
* * *
Космас вставил ключ в замочную скважину и вдруг почувствовал, что они уже здесь.
Он немедленно вынул ключ и повернул к калитке. Тогда из сада выскочили двое и приказали:
— Стой! Ни с места!
Они сказали это очень тихо. Очевидно, не хотели поднимать на ноги соседей, рассчитывали переловить их поодиночке. Решили, наверно, сидеть там хоть целый день, пока не поймают Спироса.
Бежать было уже невозможно. Космас и не помышлял об этом. Он думал только о том, что нужно предупредить Янну и Спироса. Но как?
Выход подсказали агенты:
— Эй, слышишь? Попробуй пикни, сволочь! Живо открывай дверь и входи!
Космас набрал в легкие воздуху и заорал что было сил:
— На помощь!
— Заткнись, ублюдок!..
Где-то хлопнула дверь.
— Что с вами, дорогой?
Госпожа Афина! По плитам двора простучали ее босоножки.
— Что произошло, господин Василакис? В чем дело, дитя мое?
— Цыц, окаянный!..
Они уже схватили Космоса за горло.
— Госпожа Афина…
Ее голова показалась над забором.
— Господи боже мой!
— Заткнись, гад, черт бы тебя подрал!
Этого было достаточно. Госпожа Афина подняла крик и переполошила всю округу. Послышался топот, возгласы. На улице поднялась суматоха. Встревожились даже те, кто стоял в очереди на автобус.
Собралась толпа любопытных.
Тут дверь дома распахнулась и из нее вывалился целый отряд парней с револьверами.
— Какого черта вы подняли на ноги весь квартал?
— Все этот гад! — сказал один из двух и отпустил Космасу оплеуху.
— Да что, у вас рук не было заткнуть ему глотку? Люди просачивались во двор.
— Назад! Назад! — отгоняли их парни с пистолетами.
Космас не отрывал глаз от двери. Он ждал, что вот-вот оттуда выведут Янну.
Веренице вооруженных людей, выходивших из дома, казалось, не было конца. Последний, увидев Космаса, просиял от радости:
— Космас! Дружочек!
Анастасис! Анастасис с револьвером в руке. Одним прыжком он подскочил к Космасу. Его рука взлетела над головой Космаса.
— Паршивец! Коммунист! Чертов большевик!..
Он остервенело накинулся на Космаса. Правую руку Анастасис не пустил в ход, в ней он держал револьвер, зато левой рукой молотил изо всех сил, а под конец, разъярившись, стал пинать Космаса ногами.
— Ну, берите же его! Чего вы ждете?
Анастасис повернулся к толпе:
— Разойтись! Пропустить!
Последнее, что услышал Космас, был голос госпожи Афины:
— Господи, помилуй Василакиса! Бедного господина Василакиса!..
И потом голос Анастасиса:
— Пошла к черту, паскуда! Заткнись, а то и тебя упрячу! Коммунистка чертова!
III
Если Сарантос предал, значит, врагам все известно. Единственное, чего не знает Сарантос и что они захотят из него вытянуть, — это явка.
И действительно, они начали с этого.
Космас не мог определить, куда его привезли. Высадив из автомобиля, его ввели в какой-то двор. У стен на скамейках сидели жандармы и несколько человек в штатском. Они грелись на солнышке.
— Эй, Берлингас, что он там натворил? — спросил кто-то со скамеек.
— Изнасиловал свою бабушку!
Двор задрожал от хохота.
Космаса толкнули в коридор. В потемках они стали спускаться по лестнице. Неожиданно жандарм пнул его; пролетев последний пролет кубарем, Космас упал на какое-то корыто. В нос ударила вонь. Цементный пол был покрыт засохшими нечистотами.
Его схватили за шиворот и потащили к лестнице. Пока они поднимались, конвоир уговаривал Космаса:
— Ты лучше выкладывай все с первого раза. Все равно признаешься рано или поздно, не думай, что сможешь устоять. Так что лучше валяй сразу, чтоб не пытали.
Человек говорил доверительным тоном, и Космас решился его спросить:
— Не скажешь ли ты, где я нахожусь?
— У черта на рогах. Ах ты подлец, еще вопросы задаешь! А ну, шевелись!
По внутренней лестнице они поднялись на третий этаж.
Когда они проходили мимо второго этажа, из дверей высунулась чья-то голова.
— Эй, Папаяннопулос, куда ты его ведешь?
— На прогулку!
— А кто там, наверху?
— Аргирис.
— Сам? Эх, бедняга!.. Погоди, Папаяннопулос, погоди минуточку…
Мужчина вышел в коридор, приблизился к ним и посмотрел на Космаса взглядом доброго самаритянина.
— Послушай меня, дружок. Все, что можешь сказать, выкладывай без промедления. Ты меня послушай, я добра тебе желаю. Меня три ночи здесь мучили, а я, как последний идиот, хотел выдержать характер. В конце концов все равно развязал язык и к тому же остался хромым на всю жизнь. То, что тебе пели про героизм, — все это чепуха. Мне это тоже говорили.
— Да ты что, за дурака его принимаешь? — спросил Папаяннопулос. — Конечно, он скажет, а что ему еще остается делать? Все скажет, а вечером мы его к девочкам поведем… Так, что ли, молодец?
— Что там у вас за совещание? — крикнули из глубины коридора.
— Поднимайся, говорят тебе! — заорал Папаяннопулос и стукнул Космаса по шее.
В помещении, куда его привели, Космас увидел троих мужчин. За одним столом сидел Аргирис Калогерас, за другим — Анастасис, третьего Космас не знал.
Калогерас курил, положив ногу на ногу.
Космаса поставили перед ним. Прошло несколько минут, все молчали. Докурив сигару, Калогерас бросил окурок на пол, погасил его плевком и принялся потирать подбородок.
— Ну! — Он даже не смотрел на Космаса. — Я следователем никогда не был, грамоты не знаю. Но одно тебе наперед скажу: ты нам все откроешь. Если не сейчас, то позже. Если не добром, так из-под палки. Если не скажешь живым, милейший Космас, то все, что нам нужно, мы вырвем из тебя мертвого. Ну, а раз ты все равно скажешь, то лучше говори сейчас. И тогда, даю тебе слово, никто и волоса не тронет на твоей голове.
Он снова зажег сигару, несколько раз затянулся и посмотрел на Космаса.
— Ну?
Космас не ответил.
— Ну, Космас? Скажи нам: куда ты утром отнес свой пакет? Может, ты запамятовал это, а, Космас?
— Нет, не запамятовал.
— Ну так что же?
— Я не скажу.
— Гм… — Калогерас встал. — Если б ты, мерзавец, сразу сказал, я бы первый плюнул тебе в рожу.
Калогерас поднес сигару ко лбу Космаса, а левой рукой обхватил его за шею. Видимо, он хотел по волоску выжечь ему брови. Но у него не хватило терпения, и он, прижав толстыми пальцами горящую сигару к брови Космаса, потушил ее. Космас вскрикнул:
— Мама!..
— Видишь! — сказал Калогерас. — И это не последнее твое слово, ты еще много чего нам сообщишь. Все, что знаешь, выложишь словечко за словечком.
Космаса спустили на второй этаж. Он шел, прикрывая руками лоб. В коридоре кто-то крикнул:
— Что он сказал, а? «Не знаю…» и так далее? Молодец, стойкий!..
Открылась дверь.
— Опусти свои грабли!
Он опустил руки. Перед ним стоял усатый мужчина двухметрового роста.
— Эй, как тебя зовут?
— Космас.
— Ну вот, а вы говорите, что не отвечает.
Подошли еще двое.
— Говори, чертов ублюдок!
Они перекидывали его, как куль, от одного к другому и все по очереди били. Сначала Космас старался заслониться от ударов. Он прикрывал руками живот, голову. Потом силы оставили его… Он летал, как мяч, из рук в руки. Ему не давали упасть. Потом он почувствовал, что его прижали к стене.
— Куда ты отнес пакет?
— Говори, если жизнь дорога!
От побоев он лишился чувств. И уже в забытьи услышал голос Анастасиса:
— Героя из себя корчит!
Анастасис наклонился над Космасом.
— Какой ты герой… Герои — те, перед кем дрожат коммунисты, а не те, кого бьют. Чего ты молчишь? Говори, если ты мужчина!
В тот вечер у него не вырвали ни слова.
* * *
Он проснулся и услышал свой голос, просящий воды. Он в подвале. Темно, и пахнет нечистотами. Внутри все горит. Мучит жажда. Болит все. Он то просыпается, то впадает в забытье. Ему кажется, что его уносит течение. Оно то увлекает его в бешеном вихре, то мягко убаюкивает на зыби волн.
В подвале много людей. Какие-то всадники в широкополых соломенных шляпах привязали пленника к своим седлам и скачут. Солнце нещадно палит. Желтое, как сера. Еще немного — и земля загорится.
Откуда взялись эти люди, где он их видел? Когда-то давным-давно в каком-то старом фильме. Сейчас ему кажется, что это было тысячу лет назад.
Мексиканские ковбои скачут во весь опор, волоча за собой пленного, и поют лихие песни о своих подвигах. Возле реки они сходят с лошадей и пьют. Пьют и лошади, а наездники стоят рядом и насвистывают. Связанный пленник лежит возле самой речки. Он извивается, стараясь дотянуться до воды. Вода убегает, ее не достать. Вода лижет камни и песок, журчит, прыгая по белой гальке… И, глядя на пленника, Космас тоже мучится жаждой…
* * *
За ним пришли снова.
Действующие лица сменились: военный в мундире с двумя золотыми звездочками и двое в штатском. Нет ни Калогераса, ни Анастасиса.
— Послушай, — сказал один из штатских, — мы не будем тебя бить. Но мы знаем другой способ развязать тебе язык. И мой тебе совет: не доводи нас до этого…
Потом заговорил военный:
— Нам не нужно, чтоб ты сказал адрес твоей явки. Это мы и без тебя знаем. Ты молчишь, но другие не молчат. Ты держишь рот на замке и думаешь, что герой. И не знаешь, что твои соучастники с головой тебя выдали и все свалили на тебя.
— Вот что нам скажи, — подхватывает штатский, лысый мужчина с длинной головой и серыми глазами, холодно поблескивающими за стеклами очков. — Скажи, эта прокламация, — и он берет со стола какую-то бумагу, — в вашей типографии напечатана или нет? Больше нам ничего не нужно.
Они подносят бумагу к его глазам. Нет, это не их прокламация. Сказать? Он делает вид, что разглядывает ее, а сам думает о другом: надо говорить или нет?
— Пожалуйста, посмотри получше. — И ему дают прокламацию в руки.
Если он скажет, не будет ли это началом предательства? Может, они только того и ждут, чтобы он сказал первое слово?
— Ну?
— Дай ему подумать.
— Да, да, подумай.
— Я не знаю!
— Что ты не знаешь?
— Ничего не знаю!
— Эх, паренек!..
Это тот, кто говорил первым. Он подошел, взял прокламацию из рук Космаса, стоит и смотрит ему прямо в глаза.
— Эх, паренек, что ж ты сам себя не жалеешь и напрашиваешься на пытки? Ну что ты притворяешься, будто ничего не знаешь? Работал ты в типографии или нет?
Космас молча смотрит на него.
— Работал или не работал?
— Что ты его спрашиваешь?
Человек с длинной головой делает еще одну попытку:
— Минутку, минутку… Ну, говори, чего ты молчишь? Тебя спрашивают: работал или нет? Ведь мы знаем, что работал, так и скажи: работал…
Его ведут в соседнюю комнату. Достают из чемодана туго сплетенные пеньковые канаты.
Один держит его руку, другой обматывает ее канатом.
Виток к витку, плотно, методично. Руки от локтя до запястья, ноги от икр до лодыжек. Они сидят и терпеливо пеленают его. Зачем эти повязки, Космас не понимает.
Они вышли и заперли дверь.
— Если тебе что-нибудь понадобится, крикни. Мы будем в соседней комнате.
Космас лежит и ждет. Канаты сжимают его тело. Прошло около часу. Дверь открылась.
— Как дела, Космас?
Он не ответил.
— Если что нужно, мы рядом.
Опять заперли. Муки начались не сразу. Забинтованное тело начало гореть. Сначала чуть-чуть. Но постепенно ему стало казаться, будто его стягивают не канаты, а электропровода, по которым идет ток. Пульс ускоряется; каждое биение мучительно, как удар молотком. Кожа горит, вздувается.
Дверь снова открывается.
— Может, хочешь, чтобы мы тебя развязали, Космас?.. Не хочешь? Хорошо, мы еще можем подождать.
Они оставляют дверь полуоткрытой. Вместе с болью приходит головокружение. Веки тяжелеют, глаза болят. Космас хочет позвать своих мучителей, но сдерживается. Нет, он еще потерпит, он не сдастся. Ему кажется, что нужно перенести какой-то критический момент и тогда будет легче. Он тяжело дышит, как паровоз. Пот течет рекой. Космасу кажется, что он взбирается на какую-то вершину. Он заносит ногу. Стоит ему взобраться на вершину, и все мучения будут позади. И тут перед ним разверзается пропасть, и его увлекает черный смерч.
Они пришли и развязали его. Он почувствовал это, когда ему распеленали ноги, но притворился спящим.
Потом Космас открыл глаза и увидел одного из них. Он стоял у стены с сигаретой в зубах.
— В другой раз, — сказал он Космасу, — ты подохнешь в этих обмотках.
И вышел, приказав, чтобы Космаса увели.
IV
Ко всем мучениям прибавилось еще одно — бессонница. Никогда еще Космас не чувствовал такую потребность во сне, как в ту ночь. Ему хотелось забыться и забыть все: и жажду, и боль, и мысли о завтрашнем дне. Забыться и уснуть. Но стоило ему сомкнуть глаза, как дверь с грохотом распахивалась.
— Эй, ты, за что тебя сюда упекли?
— Да так, пустяки, — тотчас отвечали за дверью. — Завтра он все выложит и пойдет себе с богом на все четыре стороны.
— А… Ну, тогда пусть себе спит.
Они ушли. Через четверть часа, когда веки Космаса снова начинали тяжелеть, нагрянули опять.
— Ну, что ж ты порешил, друг-товарищ? Думаешь, да?.. Ну ладно, думай!
Дверь захлопнулась с такой силой, что казалось, рушится дом. Очевидно, они рассчитывали, измотав его нервы, лишить его всякой способности сопротивляться.
Один притворился испуганным:
— Да не умер ли он? Несите сюда кирку и лопату!
Другого одолевала жалость:
— Землячок, не сварить ли тебе кофейку? Не принести ли холодной водички?
Черт возьми! Этот был хуже всех. Космас не любил кофе, но сейчас ему ничего так не хотелось, как маленькой чашечки кофе. Горького-прегорького. И потом холодной воды.
Еще одна такая ночь — и он умрет. Из всего, что с ним проделывали, бессонница была страшнее всего.
Время от времени Космас ощупывал свои руки и икры. Там, где была старая рана, кожа горела так сильно, будто ее густо смазали йодом. И как только подкрадывалась мысль, что еще немного времени и его снова обмотают канатами, все тело покрывалось холодным потом. Его уже не терзали жажда, боль и бессонница. Им владел страх. Космас боялся, что не выдержит, силы оставят его и он, сам того не желая, заговорит.
Мысль о том, что он может не выдержать, мысль, которая всегда представлялась ему невероятной, сейчас не покидала Космаса.
В эти минуты он не мог удержаться от слез. Он заново переживал и смерть своего друга Аргириса, и жизнь в подвале Андрикоса, и посещение министра, и работу в изюмной лавке Исидора, и сборища в салоне Кацотакисов, и разговоры с англичанином Крисом, и встречу с поэтом, и свидания с Тенисом… Разве все они, каждый из них, не указывали ему дорогу? Он встретил их на перекрестке жизни, и они звали его за собой. Но он выбрал другой путь, и путь этот привел его на Голгофу.
Не сожалеет ли он сейчас об этом?
Лучше честно сознаться самому себе сейчас, пока он один и ни одна душа не видит и не слышит его. Скоро за ним придут. И этот допрос — они так сказали, да он и сам это понимает — будет последним. Так пусть он скажет себе: сожалеет ли он?
Космас настойчиво копается в своей душе. Он ищет ответа и не находит его. Наверно, его и не может быть, потому что Космас не избирал этот путь. Он встал на него, как пешеход, который, ступив на горную тропу, неизбежно должен сделать следующий шаг. Он знает, что на этот путь его привели не Случайные встречи, не слепые обстоятельства. Привела вся его жизнь: образ мыслей и прочитанные книги, неудачи и желания, планы на будущее и воспоминания о прошлом, подсознательная жажда честной дороги и, наконец и прежде всего, мрачная тень оккупации, нависшая над ним и над всей страной и принесшая им рабство, голод, позор и опустошение.
Дороги войны не выбирают. Они видны издали алой линией фронта, вспышками выстрелов, клубами дыма и огня. Он не мог не пойти туда. «А ведь в самом деле выбора и не было, — думал Космас. — Выбирать можно то, что тебе не принадлежит, то, что можно и не выбрать…
А этот путь был во мне самом, это я сам, и нужно дойти до конца. Лучше конец, чем начало другого пути, который не будет моим…» И этот конец был уже близок.
* * *
Они, вероятно, тоже решили кончать побыстрее. Начали как вчера: пусть не говорит ни про пакет, ни про вчерашнюю прокламацию, они уже узнали у других, Пусть расскажет, как он поступил в типографию. Имена можно не называть. Им ведь известно, что Космас связался с коммунистами по ошибке, думал, что они ведут патриотическую борьбу. Но он и сам вскоре убедился бы, что цели у них совсем не патриотические…
Потом, как и вчера, повели в соседнюю комнату. Чемодан с канатами по-прежнему на подоконнике. Бинтуют терпеливо, методично.
— Ты стараешься не подвести товарищей, а между тем они не такие уж дураки. Вчера схватили одного вашего вожака. Так он не позволил пальцем до себя дотронуться, сел и настрочил целую тетрадь показаний.
Канаты наложены. Уже с порога его предупредили в последний раз:
— Второй раз ни одно сердце этих пеленок не выдерживает. Говорю это тебе, чтоб попусту не надеялся. Если не хочешь сказать про типографию, скажи про листовку или про пакет… Если сейчас не помнишь, не беда. Мы тебя развяжем, а когда вспомнишь, скажешь. Понятно?
Космас не ответил.
— Ну ладно. Мы тут поиграем в тавлеи. Надумаешь — крикни.
Дверь оставили открытой. Он слышал, как доску поставили на стол, как перемешали шашки. Один напевал: «Как поеду я, матушка, на чужбину…» Другой насвистывал ему в лад.
Сегодня канаты подействовали сразу — впились, врезались в кожу и, разрывая ее, вонзились в плоть, точно стремились добраться до кости. Кровь застучала, забилась…
Он с первой же минуты понял, что мука продлится недолго.
В дверь кто-то заглянул. Лицо его казалось расплывчатым. Голос долетал откуда-то издалека.
— Эй, парень, скажи хоть, что потом вспомнишь.
Космас ожидал, что сегодня боль будет невыносимой. Но теперь он, напротив, чувствовал, что в нем угасает даже способность ощущать боль. В глазах потемнело, голова человека в дверях закружилась и пропала…
Потом он почувствовал какой-то запах. Камфара.
* * *
Он очнулся от громкого возгласа:
— Космас!
Над ним стоял высокий мужчина с усиками. Видно было, что он взволнован.
— Если бы я не поспел, тебе бы плохо пришлось. Понимаешь ты это или нет?
Уж не сон ли это? Зойопулос! Зойопулос, который смотрит на него глазами, полными ужаса.
— Ай-я-яй, вот так, ни за что ни про что, чуть не погиб человек! Ты узнаешь меня, Космас?
Космас попытался сказать, что знать его не хочет, губы его пошевелились, но он не смог произнести ни звука. Однако Зойопулос его понял.
— Ну ладно, ладно, не волнуйся. Чем тебе помочь, Космас? Чего ты хочешь? Воды?
Принесли воду. Край стакана коснулся его губ. Сейчас, наверно, отнимут. Он жадно втянул воду, стараясь отпить как можно больше.
— Спокойно, спокойно! Не торопись!
Он выпил целый стакан.
— Еще. Принесли еще.
— Что ты еще хочешь, Космас?
— Ничего не хочу. Хочу, чтобы меня оставили в покое.
— Хорошо. Я это устрою.
Космаса повели на первый этаж. Когда они проходили по коридору, кто-то крикнул:
— Значит, сознался? Вот молодчина!
— Заткнись, Панафанасис! — одернул Зойопулос, Космаса ввели в маленькую комнату.
— Положите его сюда. Осторожнее.
Его опустили на матрац.
— Хочешь еще что-нибудь, Космас?
В дверях показался Калогерас.
— Ба! Это еще что такое?
Зойопулос преградил ему дорогу.
— Стоп, Аргирис!.. Космаса я беру на себя!
Как только Космас увидел Зойопулоса, он догадался, что его хотят взять хитростью: то, чего они не смогли вырвать у него силой, они попытаются добыть другим путем. Уходя, Зойопулос сказал:
— К сожалению, Космас, я пришел поздно. Если до завтра нам не удастся уладить этот вопрос, тебя передадут немцам. Так что лучше будет, если мы решим это дело полюбовно. Ну, а пока успокойся, отдохни…
Он направился к двери.
— Послушай…
— Да, Космас?
— Скажи, чтоб они дали мне уснуть. Они могут оставить меня в покое?
Зойопулос остановился в дверях.
— До завтрашнего утра, Космас, тебя никто не тронет. У тебя есть время выспаться и подумать…
V
В коридоре раздавались смех и крики. Космас еще не совсем проснулся, и ему казалось, что он в домике типографии. А ведь верно, комнатка точь-в-точь такая же: низкий потолок, голые стены и окошко где-то у самого потолка. Там окно выходило в сад. А куда выходит это? Оно тоже закрыто ставнями. Но из коридора через стеклянную раму над дверью проникает свет.
Космас повернулся и увидел на стуле кувшин и кусок хлеба. Хлеб он не тронул, зато схватил кувшин и залпом наполовину опорожнил его.
Голоса в коридоре звучали все громче. Теперь люди толпились под самой его дверью, и Космас ясно различал слова:
— Рассказывай, развратник ты этакий! Рассказывай, и мы оставим тебя в покое.
— Ну что вы, ребята…
— Валяй, говорю тебе.
Они говорили все разом.
— Сделайте милость, ребята, уходите. Если случится обход, мне попадет. Я ведь на посту…
Они снова загалдели:
— Да ладно тебе, нюня, какой там еще обход! Все отправились к своим девчонкам! Кто будет обход делать?
— Ах, да не дергай, сынок, мою руку!
Голос знакомый. Да это голос старика, который столько раз плакал в изюмной лавке, обижался на Исидора, поругивал Анастасиса и рассказывал о своем былом величии и похождениях. Манолакис! В эту минуту Космас вспомнил слова Сарантоса: «Посмотрел бы ты на него теперь: разгуливает в мундире, немецкую кобуру прицепил — ну, чистое пугало! Вот так, товарищ Космас…»
Манолакиса, как видно, прижали к стенке.
— Как ее звали? Скажи, как ее звали?
— Джованной ее звали! — крикнул кто-то.
— Да замолчи ты, Берлингас! Пусть он сам скажет. А ну, говори, старый распутник!
— Джованна!
— Ух, черт!..
— Вы только посмотрите на эту клячу!
— И она умерла в постели?
— Лопни мои глаза!
— Батюшки ты мои! Расскажи, как было, с самого начала.
— Да я же тысячу раз рассказывал, ребята!
— А я не слышал!
— И мы тоже!
Стало тихо. Манолакис прокашлялся. И Космас снова представил себе, как он вытирает рукой рот и готовится начать историю неаполитанки Джованны.
— Ах, ребята, как вы думаете, чем соблазнила меня Джованна? Ведь она была у меня не первая, не вторая, не третья. Да разве их всех сосчитаешь? Разве сочтешь песок? Разве сочтешь, сколько народов живет на свете?
— И как ты, сморчок, с ними управлялся?
— Цыц! Хватит тебе! Говори, старик.
— Только, чур, не перебивайте… Пошел я как-то раз в итальянский балет…
И Манолакис начал историю, которую он рассказывал несчетное число раз. Как он пошел в итальянский балет, как не понравилась ему Джованна в первой сцене и как он уже собирался уйти. Но в первом же антракте выяснилось, что Джованна заметила его и спросила у директора, кто этот синьор во фраке, который сидит в первом ряду партера. Во втором антракте он вместе с директором отправился в ее уборную, предварительно послав ей цветы. Директор вышел и оставил их наедине. Когда пришли переодевать ее к третьему действию, он начал прощаться и собрался было уходить, но тут Джованна взяла его за руки и посадила в углу уборной. Он сидел, отвернувшись к стене, и беседовал с ней об итальянском искусстве. И вдруг его взгляд случайно упал на зеркало, и в нем он увидел Джованну. Затем следовало подробное описание нагой Джованны. В конце концов глаза их встретились в зеркале. — И она не отвела их?
— Не отвела, сынок. Нет, не отвела.
— А может, Манолакис, она нарочно посадила тебя к зеркалу? Чтоб ты увидел ее?
— Потом она сказала мне, что нарочно.
— Вот стерва!
Пока Манолакис рассказывал, за дверью не было слышно ни звука. Полицейские слушали его, затаив дыхание. И только когда он закончил, начался обмен мнениями:
— Да ты небось это где-нибудь вычитал?
— Вот ей-богу, все чистая правда!
— Эй, ты можешь это записать и выпустить книгу!
— А что было потом, Манолакис?
— Что потом, сынок? Что потом?..
— Ты похоронил ее там?
— Я заказал статую из мрамора и поставил ее в саду, у входа.
Полицейские начали расходиться. Их топот и голоса раздавались где-то в конце коридора. Манолакис спросил кого-то:
— А кто меня сменит, Георгос? Кто, сынок?
— Дядя! — ответил тот.
— Да нет, его сменит Джованна!
— Прогулял десять дней, старый хрыч, и еще хочет, чтоб его сменили!
— Побойтесь бога! Я лежал в кровати…
— Значит, тебе полезно посидеть здесь, а то, не ровен час, выйдешь на улицу и простудишься.
Стало тихо. Космасу показалось, что Манолакис ушел вместе со всеми. Но прошло минуты две, и он снова услышал его шаги. Старик ходил из одного конца коридора в другой и обратно…
VI
До этого Космас не допускал даже мысли о побеге. Но когда полицейские ушли и наступила тишина, Космас понял, что Манолакис остался его единственным стражем. И внезапно поверил, что сможет бежать. Космас не чувствовал теперь ни страха, ни боли, ни изнеможения. Он чувствовал лишь одно — нужно торопиться. Дорога каждая секунда. Промедление может погубить все.
В возбуждении Космас не сообразил, что Манолакис, наверное, не единственный часовой, что в здании и вокруг него полным-полно полицейских. И если он и уйдет от Манолакиса, то вряд ли уйдет от них. Он не думал об этом. Не хотел думать. Так или иначе, живым ему отсюда не выйти. Значит, надо попробовать…
Он вдруг понял, что хочет выжить. За последние дни мысль о неизбежном конце парализовала его волю к жизни. Но достаточно было проблеска надежды, как в нем воскресли силы, воскресло все, что он старался подавить в себе перед лицом неизбежного конца. Его любовь, воля, стремления и мечты — все сосредоточилось в одном желании: дерзнуть.
* * *
Манолакис шагал по коридору из конца в конец. Иногда он останавливался. Тогда воцарялась мертвая тишина, и Космас начинал думать, что Манолакис заснул. Но вскоре старик продолжал обход.
Космас знал, что Манолакис не станет содействовать его побегу, и не строил на этот счет никаких иллюзий. Одно обстоятельство должно было ему помочь: Манолакис не знал, что охраняет Космаса. Космас слышал, что десять дней он пролежал в постели и сегодня впервые после болезни вышел на дежурство. Космас рассчитывал, что, услышав его голос, старик растеряется и тогда он заманит его в камеру, скрутит ему руки, заткнет рот, оденется в его форму, отберет оружие, а самого Манолакиса запрет в камере.
Космас выждал, когда Манолакис отойдет в другой конец коридора, встал и ощупью добрался до двери. Он решил окликнуть Манолакиса, когда тот приблизится, но не называть его по имени, а только попросить воды. Манолакис откроет дверь, зажжет свет, увидит перед собой Космаса и…
Космас стоял у двери и прислушивался к шагам. Взгляд его невольно остановился на столике, стоявшем в углу. На нем лежала газета и еще какие-то предметы — в полумраке трудно было разобрать.
Манолакис приблизился к двери. Космас не окликнул его. Выждав, когда шаги старика затихнут вдали, Космас подошел к столу. Рядом с газетой он увидел чернильницу, бумагу, полотенце, бритвенную кисточку и бритву!
Это подтверждало его соображения: каморка не предназначалась для камеры. Вероятнее всего, здесь контора. А если так, окно должно открываться изнутри.
Медленно и осторожно он открыл сначала рамы, потом ставни. За окном было темно. Космас взял стул, просунул его в окно и начал опускать вниз. Стул твердо стал на землю.
Космас с трудом взобрался на подоконник и ступил на стул.
Потом оторвал руки от подоконника, слез на землю и сделал первые шаги. Он очутился в саду. В босых ногах Космас чувствовал страшную ломоту.
Он пробирался медленно, на ощупь…
* * *
Ночь была очень темная. С неба падали крупные капли дождя. Дул ветер, пахло сыростью.
Космас шел, как слепой, терпеливо выжидая, пока глаза привыкнут к мраку. Где-то вблизи он угадывал город, который еще погружен в ночь, но ожидает рассвета…
ГОРЫ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Постелью нам будет лесная трава,
И ночь нас укроет своим покрывалом.
Партизанская песня
I
Неизвестный шел издалека и устал. Это был молодой парень, непривычный к зимней непогоде и длинным горным переходам. Он с трудом взбирался по склону, от голода его мучили рези в желудке, кость правой руки повыше локтя изрядно ныла.
Окрик застал его врасплох. Рядом затрещали сучья.
— А ну-ка, подними руки и хлопай в ладоши!
Они окружили его, и парень почувствовал на своем лице учащенное, жаркое дыхание. Чьи-то жесткие пальцы прощупали его карманы, пояс…
— Откуда?
— Из Афин!
Ему протянули руки, поздоровались.
— Пойдем к нашим.
Через кустарник пробрались к большому шалашу.
Горячий, спертый воздух ударил ему в лицо. Губы сразу запеклись, глаза залило слезами.
Вокруг угасающего костра спали, прижавшись друг к другу, человек тридцать. Дрова уже прогорели и не дымили, они тихо излучали тепло и как будто тоже спали, окутанные золой.
Несколько человек повернулись к вошедшим.
— Кто такой?
— Из Афин, товарищ комиссар! — громко отрапортовал сопровождающий.
Протирая глаза, встал комиссар. Встали и сгрудились вокруг партизаны.
— Неужели из Афин?
— Правда?
— Дайте ему сперва согреться.
Его раздели, растерли руки, грудь, плечи. Кто-то стянул с ног ботинки.
— Эй, Спифас! — крикнул комиссар, и у двери, отбросив войлочную попону, вскочил худенький подросток. — Сооруди-ка чайку…
Сердито запыхтел котелок. Запахло горным чаем, Спифас поднес гостю полную кружку. — Не торопись, глотай полегоньку!
— А как там дела в Афинах?
— Хорошего мало. Лучше вы расскажите, что нового в горах.
Гость отогрелся возле огня, и его одолевала дремота. Теплые волны приливали к лицу, голова клонилась к разостланным на земле веткам. И как будто издалека, приглушенные, долетали до него голоса.
— Наши новости ты и без нас узнаешь. Да их и не много, новостей-то… Голыми руками не навоюешься. Про голод и холод я не говорю, считай, что к этому мы привыкли. А вот поди приучись воевать без оружия. Шапками немца не закидаешь, да и шапок-то нет, разуты и раздеты…
— А что же англичане? Так ничего и не сбрасывают?
— Союзники у нас вежливые, не отказывают. Чего ни попроси — конечно, пожалуйста…
— Ну?
— Ну, и надувают…
Спать расхотелось. Кто-то снова раздул костер, подкинул сухих веток. Гость полез в карман и вытащил пачку сигарет. На каждого приходилось по половинке. Спифас взял нож и приступил к дележу.
— Дели по справедливости, как бог!
— Почему как бог? — пожал плечами Спифас. — По-партизански.
Курили торжественно и сосредоточенно. Потом разровняли золу и хворостиной чертили план. Все собрались вокруг, объясняли, показывали. Слева немцы, справа националисты. Война на два фронта. Справиться с националистами не трудно. Пусть дадут на это двадцать четыре часа и ни секунды больше. Двадцать четыре часа — большего националисты не стоят. Главные силы у них в Эпире. Туда-то и надо ударить.
Многие из партизан были эпирцами. Они особенно ждали приказ о наступлении. Эпирцем был и Тзавелас, паренек лет восемнадцати. В прошлом году националисты отрезали ему уши. Его поймали, когда он шел с донесением в Аграфа. Бумажку с донесением Тзавелас проглотил, и националисты долго мучили его, выпытывали, что там было написано. Потом привязали к дереву и отрезали ухо. Кровь текла ручьем. Когда рана стала запекаться, ему отрезали второе ухо. Потом развязали и сказали: «Если бог даст и ты выживешь, передай привет товарищам».
Тзавелас сам подбросил веток в огонь, чтобы показать, что с ним сделали националисты. Оба уха были отрезаны до основания. Но еще страшнее, чем две дыры, зиявшие на месте ушей, были рубцы на щеках — следы глубоких ножевых ударов.
— Ну, хватит! Спать! — приказал комиссар. — И ты, товарищ, ложись. Как тебя зовут?
— Космас.
— Ложись на мое место, товарищ Космас. Спокойной ночи.
Командир подвинулся. Кто-то из партизан накрыл Космаса темной шинелью.
II
Он проснулся с приятным ощущением тепла и сразу почувствовал, что выспался. Костер погас, в шалаше ни души, поверх черной шинели наброшено еще несколько одеял.
В щели просачивался яркий дневной свет. Космас отодвинул закрывавшее вход одеяло и зажмурился. Блестели мокрые ветви. Дымился испарениями лес. Рыхлый снег таял, с деревьев и с крыши шалаша капало.
— Ну, как выспался, товарищ?
На поваленном дереве сидела девушка, маленькая и круглая, в просторной шинели, подпоясанной патронной лентой. В руках у нее было вязанье, на коленях винтовка. Девушка назвалась Бубулиной.
— Время идти, в батальоне ждут.
— Далеко отсюда батальон?
— Два шага. Там тебя большой командир дожидается.
— Большой командир? Кто?
— Комиссар Леон.
Бубулина вскинула винтовку на плечо, и они двинулись в путь.
— Какой он из себя, комиссар Леон?
— Молодой, красивый…
Бубулина не умолкала и не сбавляла ходу. Одной рукой она отводила ветви, а другой, в которой держала вязанье, показывала Космасу, какой высокий комиссар Леон и какие закрученные у него усы.
Бубулинины два шага растянулись на многие километры. Они перевалили через хребет, и тогда, протянув руку, Бубулина показала куда-то вниз:
— Видишь мельницу?
В нескольких метрах от их ног начинался крутой обрыв, и далеко-далеко внизу белело величиной с горошину какое-то строение.
— Вижу. Там и есть батальон?
— Там мельница. Пройдем ее — и считай, что прибыли!
Она уже направилась было к спуску, но Космас удержал ее за руку:
— Давай передохнем!
— Запоздали мы, товарищ!
— Две минутки. — Он решил растянуть их, как Бубулина свои два шага.
Солнце заходило за гору. Вечерняя прохлада пробиралась за шиворот. Небо заволакивали тучки — ночью, видно, снова выпадет снег. Обрыв ждал их, молчаливый и бесконечный. Ныли ноги, колючая боль терзала руку… Но думать об этом не хотелось.
Космас присел на камень. Он впервые видел так близко эти глубокие снега, высокие пики и крутые склоны, поросшие елями, кедрами, буками… Издали горная громада представлялась ему неразрывной и однообразной, на самом же деле это была очень запутанная страна бесконечных суровых гряд, то лесистых, то голых и хмурых, разметанных в разные стороны, как каменные космы. Теперь горы не казались ему неподвижными. Они расступались, открывая взору все новые и новые цепи холмов. Где-то там, за холмами, Космас найдет Янну, Спироса… При мысли об этом холодный ветер казался теплее, спуск с обрыва уже не пугал крутизной, и шаги Космаса становились такими же широкими, как у Бубулины, — с одной вершины на другую.
— Что скажешь, Бубулина, до ночи доберемся?
— Только бы мельницу пройти, а там…
* * *
На этот раз Бубулина сказала правду. Они миновали мельницу и не успели оглянуться, как оказались в штабе партизанского батальона.
Навстречу им выбежали девушки. А следом за ними еще трое партизан.
— Вот и комиссар! — сказала Бубулина.
Космас хотел было спросить, который из трех комиссар Леон, но не успел — их окружили партизанки. Сдерживая смешок смущения, девушки поздоровались с Космасом за руку. Космас назвал им себя, и в ответ зажурчали, полились их имена. Все знаменитые героини были налицо: Манто, Аретуса, Хайдо, Тзавелена…{[65]}
— А ну, дай-ка я обниму тебя, Космас!
Высокий партизан раздвинул девушек и подошел к Космасу. И голос, и смеющиеся глаза очень знакомы. Но борода, усы, военный мундир… Партизан крепко обнял и дважды поцеловал Космаса. Потом отстранился.
— Так ты все еще не узнал меня?
Ну да! Это был Телемах!
* * *
— Знаю, все знаю… И от Спироса, и от Янны…
Они не виделись больше года, и Космасу сразу бросилось в глаза, как мало напоминал теперь комиссар Леон скромного учителя Телемаха, колесившего по Афинам с информационными сводками и подпольными газетами. Новыми были не только имя, борода, военный мундир и начищенные связным сапоги. Что-то новое появилось и в его речи: «Мой ординарец», «Моя лошадь»… Леон произносил эти слова очень естественно и, видно, привык к ним, как привык к немецкому «вальтеру», висевшему у пояса в новенькой кобуре.
— В тот день меня послали к вам в типографию. И если б ты задержался, в ловушке оказался бы я, а следом Спирос и Янна… Я затесался в толпу и видел, как тебя вывели и бросили в машину. Ну, думаю, пропал парень.
— Видать, не судьба мне погибнуть во цвете лет!
— Нет, ты просто молодчина! О твоем побеге я узнал от Спироса уже здесь. Он сказал, что ты в надежном месте и собираешься к нам. Боялся, что не долечишься и сбежишь раньше времени. Может быть, ты и впрямь поторопился? Как рука?
Вместо ответа Космас обхватил Леона за плечи. Тот поморщился.
— Как видишь, здоровее здоровой. Иногда чуть гноится, но это пустяки… Пройдет…
— Смотри, не храбрись попусту. У нас здесь и холод, и грязь. Запустишь — потом греха не оберешься. Приедем в штаб дивизии, покажись врачу.
— Да брось ты о руке. Скажи лучше…
— Ну?
— Как дела у Спироса?
Леон лукаво рассмеялся.
— Хорошо. Ждет тебя, И он, и дочка, по-моему, тоже. Ты уж так прямо и спрашивал бы.
— Я и спрашиваю. Когда ты видел ее в последний раз?
— Дней пять-шесть назад. Но не знаю, застанешь ли ты ее.
— Уехала?
— Собиралась. Правда, дороги сейчас перекрыты, операции в самом разгаре. Будем надеяться, что успеешь.
Неужели не успеет? Космас как будто предчувствовал это. Еще в Афинах, собираясь в горы, он почему-то больше всего боялся разминуться с Янной в дороге.
Янна ушла в горы на месяц раньше. Они простились субботним вечером в том домике в Метаксургио, где Космас залечивал свои раны. Янна пришла, и радостная, и грустная, и вдруг сказала, что завтра уезжает.
— Ничего, — успокоил ее Космас, — я скоро поправлюсь и приеду тоже.
Она села к нему на кровать. Оба были очень взволнованы, даже потрясены предстоящей разлукой.
— Через месяц я буду в горах! Как только поправлюсь… Мне обещали…
— А я ведь могу еще вернуться!
— Нет, нет! Дожидайся меня там! Хочу увидеть тебя в роли Жанны д’Арк — на коне и с копьем в руке!
III
Утром их ждал покалеченный «джип». Впрочем, от «джипа» сохранилось одно только название. По существу же этот странный драндулет был заново создан шофером. Чтобы оценить его изобретательность, достаточно было взглянуть на мотор — хитрую мозаику из проволоки, телефонных проводов и жестянок: то тут, то там торчали затычки — разноцветные тряпки, пакля, лоскуты кожи.
Однако удивительнее всего был сам шофер Гефест, высоченный парень лет двадцати, рядом с которым громоздкий «джип» казался детской игрушкой. Уверенный вид шофера действовал успокаивающе. Не будь Гефеста, ни один разумный человек не отважился бы сесть в его «джип». Зато с Гефестом волноваться было нечего: в случае опасности он сумел бы, одной ногой упершись в землю, притормозить, а то и совсем остановить машину.
Труднее всего оказалось сдвинуться с места. Гефест крутил ключ и затыкал дыру в капоте. Леон давал газ, а Космас, сидя на корточках, придерживал какой-то клапан. Как только мотор заработал, из клапана вырвался столб черного дыма и обжег ему руки.
Мотор зарычал, и машина, не дожидаясь, пока шофер сядет за руль, покатилась по дороге.
— Садись! Живо! — приказал Гефест, упершись плечом в капот и не позволяя «джипу» двинуться с места.
Потом он вынул ключ и одним прыжком оказался на своем месте. В течение нескольких секунд, пока он не завладел рулем и педалями, «джип» почувствовал себя на свободе и резво подскочил, а Леон с Космасом слетели с сиденья и больно ударились о доски. Гефест весело расхохотался, и машина рванулась вперед.
— На кой черт понадобилась тебе эта развалина? — возмутился Космас. — Этот обормот вывалит нас где-нибудь на дороге!
— Ш-ш! — Леон приложил палец к губам. — Молчи лучше, а не то высадит. Связных и лошадей я отослал вперед. Придется идти пешком.
Пока дорога шла по ельнику, путешествие было довольно приятным. Потом начался спуск. Машину бросало из стороны в сторону. Мотор то задыхался, то снова набирался сил. Каждую секунду они могли сорваться с откоса. Минуя опасное место, Гефест довольно посмеивался, и его спокойствие понемногу передавалось Космасу. Стремительный спуск возбуждал в нем азарт. Обеими руками ухватившись за поручни, он приподнялся, наклонился к Гефесту и крикнул, чтобы тот прибавил скорость. Гефест, очевидно впервые встретив такую поддержку, засмеялся и в знак согласия кивнул головой.
В Леоне заговорило благоразумие. Он схватил Космаса за руки и заставил его сесть.
— Ты с ума сошел! Масла в огонь подливаешь! Вот-вот полетим вверх тормашками…
Но тут мотор выпустил черное облако дыма и, коротко взвизгнув, умолк. Гефест с плоскогубцами в руках выскочил из машины.
— Что случилось? — спросил Космас.
— Затычка выскочила!
Затычку водрузили на место и заново повторили весь обряд отправления. Потом стали выскакивать провода, жестянки… По звуку, который издавал мотор при каждой остановке, Гефест определял причину. Он вытаскивал из-под сиденья ящик с инструментами и быстро исправлял поломку. Но однажды «джип» остановился совершенно беззвучно. Такого случая в практике Гефеста еще не было. Склонившись над мотором, он озадаченно чесал за ухом.
— Ну, а теперь в чем дело, Гефест?
Гефест не ответил. Он поднял капот и стал копаться в моторе. Потом полез под машину. Космас переспросил еще раз.
— Да отвяжись ты!
До этой минуты, вопреки шоферской традиции, Гефест не проронил ни одного бранного слова. Зато теперь профессиональная привычка взяла свое, и ругательства, одно хлеще другого, вылетали из-под машины, как пулеметные очереди.
— Пойдем-ка лучше пешком, — предложил Леон. — До деревни уже недалеко.
Они вышли из «джипа».
— Мы пойдем пешком, товарищ Гефест! — крикнул Леон, заглядывая под машину.
— Скатертью дорога!
Деревня оказалась поблизости. Они были уже на подступах к ней, как вдруг позади послышалось тарахтенье «джипа».
— Едет! — закричал Космас и выбежал на середину дороги.
— Напрасно радуешься! — разочаровал его Леон. — Не посадит.
И в самом деле, «джип» на полном ходу промчался мимо. Гефест торжествующе гудел и даже не взглянул в их сторону.
* * *
Они уже подходили к деревне, когда через заслон горных гряд до них донеслась далекая канонада. На узеньких улочках было многолюдно. Крестьяне и партизаны гнали в гору длинную вереницу нагруженных мулов. Такая же вереница спускалась им навстречу порожняком. Чтобы пропустить их, то и дело приходилось прижиматься к стенам домов.
— Как вы во-о-о-время, комиссар! — воскликнул старик партизан, встретивший их в домике интендантства.
— Что случилось, Колокотронис?
Трудно было найти человека, которому так не подходило бы это имя. Мало того что старик интендант мог бы уместиться в шлеме Колокотрониса, он к тому же и заикался. После долгих переспросов они поняли, что заместитель начальника штаба находится сейчас в деревне и уже справлялся о Леоне.
— Хорошо! — сказал Леон. — Пошли за ним и дай чего-нибудь поесть. А то мы с голода непонятливые стали…
— У меня есть фа-а-фа-фа… — с радостью начал было старик.
— Понятно, — не дождался Леон, — у тебя есть фасоль.
— Факес{[66]}, — поправил интендант.
— Тем лучше!
Они так проголодались, что чечевица с оливковым маслом, которое бог знает откуда раздобыл Колокотронис, показалась им королевским блюдом.
Пришел заместитель начальника штаба с воспаленными от долгой бессонницы веками.
— Придется тебе срочно выехать в первый полк, — сказал он Леону. — Вчера там ранили командира, ты его заменишь.
— Где теперь первый полк?
— Под Лукавицей. Сейчас там самая заваруха. Немцы прорвали линию ЭДЕС{[67]} и давят на нас.
IV
За ночь они ни разу не остановились. Падал снег. Дорога была хорошо укатана, и лошади шли ровно и бодро. Леон сказал, что в седле тоже можно спать, и сразу заклевал носом.
Едва забрезжил рассвет, внизу, возле реки, показалась белая лента шоссе. По обе стороны между стволами деревьев мерцали огни костров, чернели фигуры людей. Многие, подстелив охапку веток, спали прямо на снегу. Услышав стук копыт, люди высыпали на дорогу.
— Что вы здесь делаете? — спросил Леон. Впереди всех оказался старик, закутанный в рваный войлок.
— Пришли в горы, еле ноги унесли. Все пошло прахом, вся Деревня сгорела, что твой стог соломы! Мы здесь со вчерашнего утра. Отсюда смотрели, как наше добро пропадало… Была деревня, и нет деревни!
Старик перекрестился. Из-под войлока, надвинутого по самые брови, на партизан глянули красные, воспаленные глаза.
— Где сейчас немцы? — спросил связной.
— Бог знает, а нам откуда знать… Мы чуть услышим топот, думаем — немцы!.. Нет ли у вас табака, ребята? Затянуться бы разок-другой, а там и помирать можно…
Люди все подходили и подходили.
— Куда нам теперь деваться? — кричали женщины. — Разве от них скроешься?
Из-за поворота шоссе послышалась песня. Прошло несколько минут, и они увидели мужчину на ослике. За осликом послушно шагали мулы. Женщины еще издали узнали ездока по голосу.
— Эй, Никитас!..
— Добрый день! — приветствовал их Никитас. — Что нового?
— Это ты нам скажи, что там нового, — спросил связной. — Куда едешь?
— За хлебом и патронами!
— И как это тебя еще не повесили, непутевый? — зашумели женщины.
— А меня уже раз повесили, да веревка не выдержала…
Никитас привез хорошие новости. Минувшей ночью партизаны подорвали колонну грузовиков и большой мост, без которого немцы не могут сделать ни шагу.
— За новости спасибо, — поблагодарил Леон. — А теперь послушай, товарищ Никитас! Собери самых слабых и больных и переправь их на своих мулах в деревню.
Леон написал записку в народный совет деревни, и всадники двинулись в путь. Позади гремел раскатистый бас Никитаса: женщины собирают вещи, больные садятся на мулов, по дороге он разучит с ними новую песенку…
* * *
— По этому шоссе, — рассказывал Леон, — немцы двинулись в самом начале операции. Но партизаны заминировали большой отрезок дороги и заняли все высоты по обе стороны реки.
Тогда немцы попытались проникнуть сюда с севера. Там стояли части ЭДЕС, они дрогнули при первом же натиске. Многие отступили на территорию, охраняемую отрядами ЭЛАС, и теперь вместе с крестьянами-беженцами скитались по придорожным склонам. Группу таких дезертиров Леон и Космас встретили на шоссе.
Среди них были раненые: у кого забинтована голова, у кого рука на перевязи, В хвосте колонны плелись пленные итальянцы.
— Куда вы?
— Нам разрешили подлечиться в вашем госпитале.
— Раненые — в госпиталь, ну, а те, кто здоров? Вы-то куда бежите? Идите к нам в ЭЛАС!
Никто не ответил.
— Это итальянцы с вами?
— Итальянцы.
— Ну что ж, итальянцев тоже заберем и пойдем воевать с немцами.
Леон говорил так бойко и задорно, будто нанимал их на сбор винограда.
— Да что тут раздумывать, пойдемте с нами. А когда кончатся бои, отправитесь куда глаза глядят.
— У нас нет оружия!
— Отберем у немцев! Ну как, по рукам? Кто объяснится с итальянцами?
Итальянцы все уже поняли и спорили между собой. Наконец они объявили, что пойдут с эласитами{[68]}.
— Аванти контра фашиста! — крикнул Космас.
— Мы тоже антифашисты! — загалдели итальянцы. — Будь проклят поганый фашизм!
Судьба этих итальянцев была трагична, как судьба всех побежденных, оставшихся на земле противника. Три года назад они пришли сюда поборниками фашизма, а теперь воевали, чтобы его свергнуть. В первый год оккупации Космас не раз отведал итальянских кулаков. Били нещадно, норовили ударить в живот… Тогда Космас ненавидел их лютой ненавистью, но теперь, когда судьба их так переменилась, они вызывали у него жалость.
— Аванти! — весело крикнул Космас. — Долой Муссолини!
— Долой подлеца! — подхватили итальянцы и запели песенку, которую сложили греческие солдаты: «Дурак Муссолини…»
Они веселились до тех пор, пока на дороге не разорвался первый снаряд.
* * *
Из толпы беженцев, которая двигалась им навстречу, кто-то крикнул:
— Космас! Космас!
Космас приостановился, разыскивая взглядом того, кто его окликнул. Наконец его глаза выхватили из толпы юношу, который тоже остановился и с улыбкой смотрел на Космаса.
— Натан!
Космас соскочил с лошади и обнял его.
— Как ты здесь очутился, Натан? Куда ты идешь? Они вместе учились в предпоследнем классе гимназии и были очень дружны. Натан Алкалаи, его сестра Руфь, мать и отчим, который служил бухгалтером в филиале Национального банка, прожили в их городке только один год. Потом отчима перевели в другое место, и они уехали. Руфь была на два года старше брата, тонкая, подвижная девушка со смуглой бархатной кожей, которая многим тогда вскружила голову. Руфь играла на фортепьяно и очень хорошо танцевала…
— Куда ты, Натан?
— И сам не знаю! Может, здесь, в горах, уцелеем…
Космас поискал в толпе беженцев родных Натана, но увидал только жалкую, скрюченную старушку, которая подошла и встала рядом с Натаном.
— Это моя тетя! — сказал Натан.
— А остальные? Руфь?
— Нет больше Руфи, Космас! Ни Руфи, ни матери, ни отца…
Его голос дрожал, лицо исказилось гримасой боли.
— Даже не знаю, где они! В каком-нибудь лагере, если еще живы… Однажды ночью, когда меня не было дома…
Космас поспешил отвлечь его:
— Что ты собираешься делать?
— Не знаю.
— Пойдем с нами!
— Правда? — оживился Натан. — Ты так думаешь, Космас?
— Что тут раздумывать? Будем воевать вместе… Если бы Натан был один, он, конечно, согласился бы.
Но тетя, которая до этого стояла рядом, безмолвная и недвижимая, словно мумия, вдруг встрепенулась и ожила.
— Натан! — Она схватила Натана за руку и заговорила с ним на своем языке. Он слушал, молчаливый и серьезный.
Потом старуха обернулась к Космасу.
— Нет! — сказала она. — Натан не пойдет!
Космас увидел в ее взгляде ужас и отчаяние, он попробовал успокоить ее.
— Нет! Нет! — еще решительнее сказала старуха и дернула Натана за руку.
Тот не сопротивлялся. Он пошел следом за ней, то и дело оглядываясь на Космаса. В его по-девичьи кротких глазах застыла глубокая тоска.
— Ну что ж, счастливого пути, Натан! — с грустью сказал Космас. — Желаю удачи!
Едва Натан и старуха догнали остальных, на дороге снова разорвался снаряд. Послышались испуганные крики и детский плач. Космас хотел вернуться, но Леон не позволил: нужно было торопиться. Космас очень сожалел, что не сумел уговорить Натана. Эта старуха с лицом Сивиллы всецело властвовала над его душой. Настаивать было бесполезно.
V
Офицер ЭДЕС в мундире и с оружием спешил им наперерез.
— Прошу вас, задержитесь на минутку! Не знаю, что с ними делать!
Неподалеку, под развесистым деревом, стояла группа мужчин.
— Там майор Квейль, представитель английского командования. Чуть-чуть не попал в плен и теперь нервничает. А что я могу для него сделать? Языка английского я не знаю, переводчик сбежал. Они тоже вас просят, подойдите.
— Пойдем, Космас, — сказал Леон. — Видать, мы так и не доберемся сегодня до полка. Ты ведь знаешь английский?
— Объясниться сумеем. Пошли!
— Слава богу! — облегченно вздохнул эдесит. — Ну и намучался я с ними!
— А чего они хотят?
— Сами не знают. Боятся, что их схватят немцы. Много слышал Космас об английском хладнокровии, но эти англичане не могли им похвастать. Майор Квейль, длинный, худой, с рыжей шевелюрой и рыжими бровями, не скупясь на проклятия, ругал эдеситов за то, что они не сумели удержать своих позиций по крайней мере до тех пор, пока не обеспечат отступление.
— Скажи ему, Космас, — попросил Леон, — что наши передовые части держатся крепко. Пусть успокоится!
— Ему нелегко будет успокоиться, — вставил офицер ЭДЕС. — Чуть-чуть не угодил к немцам.
— Чего вы от нас хотите? — спросил Космас англичанина.
— Мы хотим добраться до штаба английской миссии. Мы хотим, чтобы нам дали лошадей, идти пешком мы больше не можем… И пусть нас сопровождают офицеры ЭЛАС, ну, скажем, вы двое! — Тон англичанина становился все более требовательным.
— Переведи ему, — резко сказал Леон, — что мы не находимся у него в подчинении. И если он будет продолжать в таком духе, мы не станем его слушать.
— Помилуйте, — пошел на попятный Квейль, — наша просьба никак не носит характер приказа.
— Что случилось, Леон?
Они оглянулись. На дороге остановились трое всадников. Один из них спешился и направился к дереву. Космас узнал его сразу. Это был Спирос — в шинели и пилотке, но совсем прежний, штатский, похожий больше на крестьянина, чем на комиссара дивизии.
Он поздоровался с каждым за руку, а Квейля приветствовал как старого знакомого.
— Как вы поживаете?
— Хорошо!
Космаса Спирос узнал не сразу и, протягивая ему руку, как видно, приняв его за переводчика.
— Ты? — поразился он. — Откуда ты свалился?
Он привлек Космаса к себе.
— Так как же это, Космас? Когда ты прибыл? Здоров?
— Да, здоров…
— Совсем здоров?
— Да, да…
Спирос недоверчиво посмотрел на него и снова обернулся к Квейлю.
— Ну вот, пожалуйста! — сказал Квейль. — Опять мы у вас в плену.
— В плену у просчета, — улыбнулся Спирос. — Мы же предупреждали, что ЭДЕС не удержится.
В руках у Спироса был пастушеский посох. Квейль попросил разрешения рассмотреть его получше.
— Хорошая работа!
— Возьмите его себе!
— Нет, нет, как можно…
— Я найду себе другой. Если нравится, берите.
Квейль поблагодарил и не взял. Спирос вернулся к прерванному разговору:
— Нужно оружие. С оружием и отряды ЭДЕС продержались бы дольше. Греки — и правые, и левые — умеют воевать, было бы чем.
— На весь батальон у нас был один «брем», — вмешался офицер-эдесит, — да и тот без лент.
— Вот видите! — воспользовался поддержкой Спирос. — А мы воюем только тем, что отбираем у немцев и итальянцев.
Он распрощался с англичанами и подошел к Леону.
— Лошадей придется отдать. Штаб уже близко, вон под той скалой.
— Отдать, конечно, можно, но лошади не кормлены и еле-еле идут. Как бы не свалились по дороге…
— Другого выхода нет. Хорошо, если ты дашь им связного.
Он еще раз попрощался и направился к лошади, но на полдороге обернулся и позвал Космаса:
— Поди-ка сюда! Тебе ничего не нужно? Как рука?
— Хорошо!
— Куда ты теперь?
— С Леоном…
Спирос взял Космаса под руку, и они вместе пошли к лошади.
— А Янна надеялась застать тебя в Афинах… Она уехала по заданию…
Когда Космас вернулся под дерево, англичане уже получили лошадей и собирались в дорогу. Офицер ЭДЕС считал, что его миссия окончена. Он хотел присоединиться к Леону.
— С удовольствием, — радушно пригласил его Леон. — Если англичане не возражают…
Космас передал Квейлю просьбу офицера.
— Нет! — запротестовал англичанин, — Он состоит в частях ЭДЕС, вы не имеете права его мобилизовать!
— А мы и не мобилизуем его. Он сам хочет остаться…
— Нет, он нам нужен!
— Вот тебе и на! — расстроился эдесит.
Прощаясь, Квейль поблагодарил Космаса за помощь.
— Идите к нам переводчиком! Не пожалеете.
— Я всего лишь четвертый день в горах и хочу на передовую. Еще встретимся…
— Вы хорошо говорите по-английски. Где вы учили язык?
— Сначала сам, по учебнику. А в позапрошлом году в Афинах у меня был случай попрактиковаться. Я прятал английского офицера, он жил у меня целый месяц…
Англичане заинтересовались и засыпали Космаса вопросами.
— Это, по-видимому, майор Стивене!
— Вы знаете его?
— Если только это он, — ответил Квейль. — Скорее всего он.
— Не собирается ли он к нам? Хотелось бы повидать его еще раз…
— Не исключено, что увидитесь. А до тех пор постарайтесь не повстречаться с немецкой пулей…
— Благодарю вас, буду иметь в виду… Простились они по-дружески. Первое впечатление от встречи с англичанами постепенно сгладилось.
* * *
Между двумя каменными глыбами был натянут брезент. В глубине укрытия, склонившись над телефоном, сидел на красном войлоке партизан.
— Где командир? — спросил его Леон.
— На наблюдательном пункте, товарищ комиссар!
Метрах в тридцати от палатки, облокотившись о камень, смотрел в бинокль приземистый мужчина с черными, как вороново крыло, волосами. Услышав их шаги, он оглянулся:
— А, Леон!
— Как дела, товарищ полковник?
— Иди посмотри. Опять наступают.
VI
Голые вершины и поросшие елями склоны, снега и камни — все немо и неподвижно. С непривычки бинокль прыгает в руках Космаса, и два круглых стеклышка выхватывают то пятачки пепельно-серого неба, то что-то темное и непонятное.
— Первый раз смотришь в бинокль?
— Первый…
— Вон туда гляди! Видишь?
Космас понял, что задерживает полковника, и вернул ему бинокль. Теперь даже невооруженным глазом он заметил зеленые крапинки, сползавшие по снежному склону на той стороне реки. Это были немцы. На фоне громадных скал и глубоких ущелий они казались совсем ничтожными и безопасными.
Вдруг на небольшой высотке, как раз напротив наблюдательного пункта, разорвалось несколько снарядов.
— Чтоб им пусто было! Где же артиллерия? — Полковник выругался и бросился к телефону. — Эй, Лефтерис! Скажи им… пусть еще раз ударят по церкви!
— Не отвечают, товарищ командир! — отозвался телефонист.
Космас ждал следующего ругательства, но полковник удержался. Прошло несколько минут, и партизанская артиллерия заговорила. Она обстреливала дорогу, по которой немцы посылали подкрепление. Немцы не остались в долгу. Они перенесли огонь поближе, их снаряды рвались теперь возле самого наблюдательного пункта.
— По перевалу целят, — сказал полковник. — Хотят отрезать от нас высотку. Значит, опять будет атака.
Не успел он договорить, как застрочили пулеметы. Леон сообщил, что немцы заходят с фланга, и полковник снова стал проклинать артиллерию…
Ущелье клокотало. Казалось, воздействовать на это исступление никто уже не мог, оставалось только ждать, что выйдет из адского варева.
Однако полковник не отступал. Он кричал в телефонную трубку и рассылал связных, которые вырастали перед ним как из-под земли.
— Видишь, вон скала торчит?
Космас не сразу понял, что полковник обращается к нему. Он оглянулся и только теперь заметил, что Леон исчез. Они были вдвоем.
— Видишь? — переспросил полковник. — Вон справа!.. Так вот, беги туда что есть духу. Скажи взводному — пусть займут Анонимо. Они знают, как действовать.
Когда тебе говорят «беги что есть духу», разве станешь расспрашивать, где эта скала? И Космас сломя голову бросился в том направлении, куда показывал полковник.
— Осторожней на перевале!
Что имел в виду полковник, Космас понял позже, когда спустился к перевалу и оказался на открытой тропе. Он продолжал бежать. Снаряд разорвался совсем рядом, и Космас очутился на земле. На спину ему обрушились камни и комья земли. Стало душно, во рту он ощутил горьковатый привкус. Космас открыл глаза и неподалеку увидел искореженный кусок железа, напоминающий раскрытую ладонь… В ушах звенело, внизу ревело ущелье. Вокруг плотной стеной стояли горы, одна похожа на другую. Где немцы? Где партизаны? Космас не знал. И что хуже всего — он не знал, где эта злосчастная скала. Куда ни глянь — кругом скалы, одна больше другой, и все торчат. «Будь что будет! — подумал Космас. — Назад ходу нет!» И он кубарем покатился по склону.
Его остановил окрик:
— Эй, ты!
Справа под кустом лежал связной полковника.
— Ты что, ранен? — спросил Космас.
— Да ложись ты! Чего стоишь как вкопанный?
Космас послушался и тоже пополз под куст.
— И как ты уцелел, ума не приложу! Идет, понимаешь ли, словно на праздник!
— А как еще идти?
Оказалось, что идти нужно было не по перевалу, а по лесистому склону, там бы Космаса не заметили. Связной показал ему дорогу.
— Пригибайся, пригибайся! — крикнул он вслед Космасу. — Это место тоже просматривается!
Сам он полез в гору. Космас остановился, чтобы посмотреть, как тот пройдет. Он прошел, пригнувшись, тихо и незаметно, как кот. Никто его не обстреливал. И, глядя на него, Космас подумал, что не так уж здесь страшно, как кажется сначала. Нужно только приноровиться.
На этот раз его окликнули снизу, из лощины.
— Куда ты мчишься, товарищ? Иди сюда! Партизаны, молодые парни, лежали под прикрытием каменного обвала.
— Кто здесь командир взвода? — спросил Космас.
Бойцы позвали:
— Керавно-о-ос!
— Вашего командира зовут Керавносом? — обрадовался Космас.
Ответить они не успели. Гулким ручейком посыпались камни, из-за выступа в скале показался сам командир.
— В чем дело, ребята?
— Спрашивают тебя…
Керавнос узнал его сразу.
— Смотри, пожалуйста! Афинянин! Помню я твою хлеб-соль и соседку твою тоже помню. А ты все такой же конспиратор?
Партизаны уже собрались.
— Пошли, ребята, пора.
* * *
Чем дальше они продвигались, тем глуше становился голос командира Керавноса. Ущелье осталось позади. Они вступили в редкий ельник и осторожно перебегали от дерева к дереву.
До сих пор Космас думал, что бой — это стремительное столкновение, подобное вспышке молнии, яркое и скоротечное. Но оказалось, что война подчас бывает медлительной и неповоротливой. Перестрелка началась с самого утра, теперь уже вечерело, а ни конца, ни края не было видно…
Взвод Керавноса, должно быть, уже побывал на этой высотке и раньше. Не дожидаясь распоряжений, партизаны заняли свои места, установили пулемет.
— А ты, брат, иди сюда! — позвал Керавнос Космаса. — Ложись и не своди глаз вон с той скалы. Оттуда пустят зеленую ракету. Смотри не прогляди.
— Я постараюсь, но, может, ты на всякий случай поставишь кого-нибудь еще?
— Да все мы будем глядеть в оба! — засмеялся Керавнос, и Космас успокоился.
Внизу, под ними, шел бой. Дребезжа, на высотку залетали шальные пули. Фигуры немцев темными пятнами выделялись на снегу, прикованные к земле огнем партизанского полка.
Как пустили ракету, Космас не заметил. Позади него рявкнул бас Керавноса, застрекотал пулемет, раздались ружейные выстрелы. Космас оглянулся. Керавнос сложил руки рупором и кричал, как капитан корабля во время шквала…
Потом кто-то подал сигнал: «Бегут!» — и партизаны устремились вниз по склону. Один только пулеметчик остался наверху, он продолжал стрелять.
Немцы поспешно перебирались через реку. С другого берега их прикрывали пулеметы.
Вскоре совсем стемнело. Ружейная стрельба прекратилась. Несколько раз прогрохотали немецкие пушки. Они наугад обстреливали затихшее поле боя.
— Отыгрываются! — усмехнулся Керавнос.
Метрах в десяти от того места, где во время перестрелки залегли Керавнос и Космас, на узкой тропинке, спускавшейся к реке, они нашли первого убитого немца. Это был настоящий великан, в шлеме, с открытыми, казалось, еще видящими глазами. Керавнос нагнулся и снял с него автомат.
— Сними и сапоги, — сказал он Космасу. — Пригодятся!
Космас склонился над трупом. Пальцы его запутались в каком-то ремешке, он потянул за него и вытащил револьвер.
— И сапоги тоже возьми! — повторил Керавнос.
Космас дотронулся до сапог. Но не снял — рука его ощутила мягкое, податливое тело. Он поспешил отойти.
* * *
Под прикрытием скалы они разожгли костер. Курили немецкие сигареты, рассматривали трофеи — оружие и одежду. Самым удачливым признали Космаса. Немецкий парабеллум считался высшей маркой оружия. Партизаны так его расхваливали, что Космас решил уступить кому-нибудь свой трофей. Однако вмешался Керавнос:
— Нет, ты его нашел, ты его и носи!
Пока дожидались ужина, кто-то запел:
Постелью нам будет лесная трава,
И ночь нас укроет своим покрывалом,
От песни и пляски звенит голова,
Сам ветер сегодня у нас запевалой…
В песне говорилось о Греции, о любви, о весне, такой же юной и отважной, как эти ребята.
Правда, трава еще не выросла. Но весна была уже не за горами, она обещала принести им цветы, свободу и любовь. И молодые партизаны прокладывали ей дорогу.
Из темноты послышались голоса. Вместо ожидаемого повара к костру подошел полковник.
— Так ты еще жив? — спросил он Космаса и похлопал его по плечу. — Рановато было посылать тебя в самое пекло. Но раз уж выкарабкался, собирайся в дорогу!
— Куда?
— Сперва к Леону, он тебе объяснит…
Связной полковника доставил Космаса в штаб.
— Ну, наконец-то! — обрадовался Леон. — Ложись спать, а утром снова в путь.
— В чем дело? Куда?
— Толком и я не знаю. Позвонили из дивизии, велели «виться…
— А как ты думаешь, зачем?
— Сдается мне, что понадобился твой английский язык.
— Только бы не это!
— Что поделаешь! Думаешь, мне больно хочется быть комиссаром?
Нельзя сказать, чтобы последняя фраза Леона прозвучала убедительно. И Космас не преминул его поддразнить:
— Почему, Леон? Тебе так идет быть комиссаром!..
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Timeo danaos et dona ferentes.{[69]}
Вергилий
I
Деревня, в которой расположился штаб дивизии, приютилась на вершине горы. И гора, и деревня назывались одинаково — Астрас. Гора была высокая и неприступная, с отточенными голыми пиками, где вьют гнезда орлы. И деревенские домики, разбросанные среди елей, снизу казались орлиными гнездами.
Космас и связной еле переводили дыхание. Космас вышел не позавтракав и сейчас, карабкаясь в гору, испытывал острый голод и слабость.
— Держись! — подбадривал связной. — Если судьба улыбнется, отведаем деревенских пирогов…
Пироги! Теплые, пышные деревенские пироги! Космасу почудилось, что они уже тают у него во рту. А связной рассказывал так аппетитно, как будто похрустывал свежей корочкой. Он доложил Космасу, что подают на завтрак, на обед и на ужин офицерам английской миссии — жареных цыплят, сыр, кренделя…
— Откуда у них такое богатство? С самолетов, наверно, сбрасывают?
— Обменивают в деревнях на золото. А с самолета им сбрасывают вино, шоколад…
— Ну ладно, друг, хватит!
Тропинка петляла среди высоких сугробов. Когда они останавливались отдышаться и Космас переводил взгляд с вершины вниз, на крутой, точно топором обрубленный, склон, голова у него начинала кружиться.
— Едва ли сюда забирались немцы? — спросил он связного.
— Не забирались и не заберутся!
Под вечер они подошли к околице. Космас глубоко вздохнул и поблагодарил тех, кто построил деревню здесь, а не выше. Завидев над крышами домов дымок, он вспомнил о пирогах. Но вместо отдыха и лакомства его ждала работа. На другом конце деревни стоял большой дом, три человека сидели там за одним столом и мучительно пытались понять друг друга. Кроме Спироса здесь были командир дивизии и англичанин — майор Антони.
Основным средством общения был немецкий, которым все трое владели далеко не в совершенстве. Время от времени генерал вспоминал несколько английских слов, а майор Антони — одно-два древнегреческих, которых не знали ни Спирос, ни генерал. Главная тяжесть переговоров лежала на генерале, и поэтому он несказанно обрадовался появлению Космаса.
— Слава богу! Отмучились! А то что получается? Мы твердим свое, а наш друг Антони все понимает по-своему. И по-своему докладывает в Каир. Теперь хоть совесть будет чиста: мы ему сказали, он нас понял и пусть потом докладывает, что ему заблагорассудится… Вольному воля, спасенному рай…
Радушно встретил Космаса и Антони. Он придвинул к столу еще один стул и усадил Космаса рядом с собой.
Собеседники вернулись к прерванному разговору. Майор Антони — теперь уже через Космаса — повторил запрос английской миссии о судьбе греческого офицера майора Вардиса.
Это имя было Космасу знакомо. Он помнил одного человека, которого звали Вардисом. Года два назад в переполненной камере итальянского застенка, куда вместе с группой студентов попал Космас, майора Вардиса допрашивал офицер-итальянец. Вардис держался с большим достоинством, отвечал умно и метко, и Космас позавидовал его выдержке и самообладанию.
Теперь майор Вардис был в горах. Сначала он служил в отрядах ЭДЕС, но на днях командование ЭДЕС известило англичан, что в момент отступления майор попал в плен к эласитам и его жизни угрожает опасность. Английская миссия телеграфировала в Каир, и оттуда пришла радиограмма с запросом о майоре Вардисе. Командование ЭЛАС опровергло сведения эдеситов: когда немцы разбили под Астипалеей части ЭДЕС, Вардис сам явился в расположение полка ЭЛАС, эласиты его приняли, и сейчас майор воюет в одном из батальонов.
— Я нисколько не сомневаюсь, что вы говорите правду, — согласился Антони. — Но во избежание недоразумений майору Вардису все-таки следует предстать перед своим командованием…
— Дорогой мой майор! — улыбнулся англичанину генерал и потом продолжил через Космаса: — Скажи ему, что Вардис в полной безопасности. Я лично знаю и уважаю его как способного офицера. Вчера ранили командира батальона, и Вардис его замещает. Но если он заявит, что хочет покинуть ЭЛАС, никто ему препятствовать не будет. Пусть наш друг Антони так и сообщит своему командованию, пора кончать с этим вопросом.
— И еще, — добавил Спирос, — скажи ему, Космас, что я позавчера виделся с майором. Он сам просил, чтобы ему позволили остаться в батальоне до конца военных действий. И еще скажи: если майор Антони пожелает, он может увидеться с Вардисом…
— С удовольствием! — воскликнул Антони. — Прекрасная мысль!
— Вот и хорошо! — сказал генерал. — Выход найден. Он всегда находится, когда дело зависит от нас. Когда же дело за нашими дорогими друзьями… ищи ветра в поле!
Генерал уже достиг того возраста, когда люди часто обнаруживают особую склонность к пословицам. Почти всю свою жизнь он прожил в казармах и военных походах, бок о бок с солдатами, и знал толк в метком слове и хлесткой шутке. Он был еще крепок и бодр и, как видно, не тяготился тяжелыми условиями партизанской жизни: сбросил несколько килограммов в весе, похваливал смолистый дух елей и сосен, пил из родника студеную воду, а когда выдавалась свободная минута и ничто не омрачало его настроения, запевал свою любимую песню «Люлес»{[70]}. И, забывая о преклонном возрасте, генерал чувствовал себя тем молодым и горячим парнем, который лет сорок тому назад добровольцем вступил в партизанский отряд и пошел сражаться с турками.
Когда в 1942 году Центральный комитет ЭАМ предложил генералу подняться на Астрас и взять на себя командование дивизией ЭЛАС, англичане забеспокоились и пожелали повидаться с ним. Генералу дали понять, что его место не в ЭЛАС, а в ЭДЕС. Они сделали ему еще одно предложение: за счет средств Генерального штаба Среднего Востока сформировать в Пелопоннесе новое партизанское подразделение. Все расходы брали на себя англичане. Они же обязались поставлять партизанам вооружение. Генерал разгадал их расчеты. Если прогнившая правящая олигархия Греции была, как он говорил, сорняком, подлежащим искоренению, то хитроумная политика англичан представлялась генералу благоприятной почвой для буйного произрастания сорняков. «Что твой навоз, — говорил генерал. — Все они одного поля ягода». Он ответил англичанам, что родился и вырос в этих горах, знает каждую тропку и каждый-кустик и только здесь сумеет принести родине наибольшую пользу. И он пришел в горы, к разутым, раздетым и почти безоружным партизанам, чтобы воевать не на словах, а на деле. Сначала ему, наверно, показались странными порядки новой партизанской армии — комиссары, советы, общие собрания, девушки в военной форме… Но скоро генерал понял, что благодаря этим новшествам партизанская армия выжила, окрепла и, несмотря на все препятствия, продолжала борьбу.
— Переведи ему, Космас. Нужно оружие! Оружие! Мы уже не раз об этом говорили! Они нам обещают, мы ждем, оружия все нет и нет. Если они и теперь не сбросят оружие, наши части окажутся в безвыходном положении. Вот так и скажи ему: оружие! Опла!{[71]}
Антони заметил, что генерал делает упор на этом слоне, и, не дожидаясь перевода, спросил Космаса, что значит «опла». Космас объяснил.
— А какой глагол от этого существительного?
— Оплизо{[72]}.
По просьбе Антони Космас написал этот глагол на бумаге, и англичанин, вспомнив его древнегреческое произношение, стал перечислять основные формы:
— Гоплидзо, гоплидзон, гоплиса…{[73]}
— Э, нет! Пусть он отступит на время от своей системы, — усмехнулся генерал, — пусть лучше сейчас поспрягает: оплисон, оплисантон{[74]}. Военным больше к лицу повелительное наклонение, а когда кончится война и он снова станет учителем…
* * *
Антони был филологом, преподавателем латинского языка в одном из лондонских колледжей. Он получил классическое образование у себя на родине и потом некоторое время стажировался в Риме. Итальянским языком он владел свободно и теперь пытался изучить новогреческий. Больше всего ему мешало отрывочное знание древнегреческого языка. Верный учительской педантичности, Антони не мог запомнить ни одного нового слова, если не находил его древнего корня.
В деревне добродушно посмеивались над упражнениями Антони. Крестьяне на греческий лад звали его Антонисом, а немного погодя нашли ему и прозвище — «Ходи-ходи».
— Ходи! Ходи! — кричал из окна Антони, когда мимо английской миссии проходил кто-нибудь из крестьян. Он зазывал прохожих к себе в кабинет и каждого угощал стаканчиком виски.
— Эвхаристо!{[75]} — говорили крестьяне.
— Нет, нет! — возражал Антони. — «Эухаристо» говорю я, а ты говори «сенк ю».
Когда Антони шел по деревне, крестьяне также зазывали его: «Ходи-ходи!» — и подносили ему кружку свежего молока. Антони пил и говорил: «Эухаристо». Всем в деревне он пришелся по сердцу. Всем, кроме коменданта Астраса, деда Александриса.
— Почему он тебе не нравится? — уже позднее спросил его Космас.
— Да хранит тебя бог от волосатой бабы и безбородого мужика! — ответил старик.
У майора Антони на самом деле было лицо скопца…
— Так вот, пусть он ставит прошедшее время, когда снова будет учителем, — повторил генерал. — Но чтобы потом сказать: «Я вооружал», сейчас нужно говорить: «Я вооружаю»…
Антоны выслушал его с улыбкой, но так и не сумел скрыть огорчения: ведь он не раз телеграфировал в Каир, и оттуда ответили, что на днях сбросят оружие. И, конечно, сбросят. Пусть на этот счет не будет сомнений.
— Я еще раз пошлю телеграмму! Я объясню им, какое серьезное сложилось положение…
С делами было покончено, и Антони пригласил гостей отужинать. При одном только слове «ужин» Космас представил себе блюдо с жареным цыпленком, плитку хрустящего шоколада и массу других вкусных вещей, о которых рассказывал ему связной. Отрадное видение рассеял любезный ответ Спироса:
— Благодарим вас! Как-нибудь в другой раз!
* * *
В деревне стояла лишь небольшая группа партизан комендантской роты. Остальные ушли на передовую. И начальник штаба, и многие штабные офицеры находились в действующих частях. Штаб помещался в маленьком домике возле церкви. Там оказалось только трое офицеров, связные и телефонист Архимед. Космас огляделся. Скромная, если не сказать — убогая, обстановка никак не вязалась с его представлениями о штабе такого крупного военного соединения, как дивизия.
Генерал и Спирос жили в соседнем доме.
— Пошли к нам ужинать, — пригласил Спирос. — Ты, наверно, голодный?
— Его надо было бы оставить у Антони! — рассмеялся генерал. — Сознавайся, сколько дней голодаешь?
Когда он ел последний раз?.. И что он ел? Сколько ни припоминал Космас, он не вспомнил ничего, кроме тарелки чечевицы, которую дал ему и Леону Колокотронис. Сколько времени прошло с тех пор? Тарелка чечевицы давно уже превратилась в далекое и приятное воспоминание.
Связной выдал им по куску хлеба и по кружке горячего молока. Хлеб был мягкий и пышный. Космас не заметил, как проглотил свой кусок. Спирос отломил ему половину своего.
— Нравится?
— Еще бы! Это что, крендель?
Спирос и генерал расхохотались. Это была самая обыкновенная бобота. Связной разогрел ее на огне.
II
Дом коменданта стоял на отлете. Белый, запорошенный снегом утес высился за ним, как древняя стена.
Комендант — дед Александрис — и его старуха сидели у огня и ужинали молоком и боботой.
— Садись, молодец! — пригласил старик. — Заночуешь у меня. А завтра видно будет, куда тебя определить. Постели ему, старуха, у Элефтерии. Знаешь, кто такая Элефтерия? Первая наша красавица, всем девкам дивизии командирша. Вот приедет, познакомишься. А сегодня в ее каморке переночуешь.
— Не вернется она?
— Не должна. А коли и вернется, что с того? Постелет себе на полу и ляжет. Когда Элефтерии нет, там всегда кто-нибудь ночует. Бери миску, ешь и рассказывай.
Дед, как истинный грек, питал особое пристрастие к беседе. Сначала он терпеливо слушал дремотное бормотание Космаса. Потом заговорил сам:
— Сколько годов ты мне дашь?.. Восемьдесят два уже стукнуло! Мне говорят: «Отдохни, твое дело теперь отдыхать». Знаешь, что я им ответил? «Не дело, говорю, сидеть сложа руки. Добрый конь всегда свой овес заработает, назначайте меня комендантом». С тех пор служу комендантом, а сыновья мои взялись за винтовки. В дивизии они теперь. Ты повидай их. Во богатыри! Оба в отца! Ребята что надо!
Старуха толкнула его в бок:
— Да будет тебе! Кабы не сглазить!
— Таких ребят не сглазишь!
Дед говорил долго. Космас выпил еще одну миску горячего молока. Воздух в комнате был тяжелый, пахло шерстью, жиром от лампы, чесноком, пахло потом от обнаженной волосатой груди старика. Космас с трудом удерживал пудовые веки.
— Вставай! Вставай! — затеребила деда жена. — Устал парень, в сон его клонит…
Она зажгла вторую лампу и распахнула дверь. Морозный воздух мгновенно разогнал сон. Космас закутался в шинель и пошел следом за старухой. Позади топал дед.
Вдали загрохотали пушки. Старуха приостановилась. Космас оглянулся и неожиданно для себя прямо над кровлей дома увидел вершину скалы. Громадный каменный зуб. Он словно ожил и надвигался на них, но замер, едва Космас повернул голову.
Снова ударили пушки. Старуха взяла лампу в левую руку и перекрестилась.
— Господи! Земля дрожит!
— Чепуха! — возразил дед. — Не провалится. Он взял у старухи лампу и двинулся вперед.
* * *
Сквозь сон Космас почувствовал, что в комнатке кто-то есть. Он открыл глаза. Возле разведенного старухой огня сидела на корточках девушка.
— Хорошо ли спится? — спросила она весело и чуть насмешливо. — Кто тебя разбудил — я или холод?
Космас протер глаза и окончательно проснулся.
— Подожди, сейчас надену ботинки…
— Зачем? Спи, пожалуйста! Я устроюсь…
Элефтерия подбросила в огонь веток, проворно постелила на полу все, что могло служить постелью, сверху положила свою шинель. «Нет, — подумал Космас, — надо уступить ей кровать!» Он встал и натянул ботинки.
— Давай поменяемся! На полу буду спать я!
— Ладно! Шинель оставь у себя. Когда огонь погаснет, будет холодно. Ты давно в горах?
— Всего несколько дней.
— Из каких мест?
— Из Афин.
— Что там нового? Как дела в университете?
— Ты, наверно, студентка?
— Педфака, ушла с последнего курса. Я уже год, как в горах.
— Из Афин?
— Из Гепати!
— Как тебя зовут, я знаю, мне сказали. А меня зовут Космас.
— Он, да ты не муж ли Янны?
— Ты ее знаешь?
— Еще бы! Вместе работали, вместе жили. В этой самой комнатке… Секретничали по ночам: Янна о тебе…
— А ты? — спросил Космас и приготовил еще один вопрос: что они говорили о нем, о Космасе?
— Моего жениха расстреляли в августе в Салониках. Вместе с братом…
Несколько минут в комнатке стояло молчание.
— Ложись спать! — сказала Элефтерия. — Представляю себе, как ты устал!
— Да, да, спокойной ночи!
— Ночь-то уж прошла! Утро на дворе. Так что с добрым утром!
Сквозь щели в двери заглядывало утро.
III
Он распахнул дверь и вышел умыться снегом. Белая земля слепила, отражая, словно в гигантском зеркале, блеск чистого голубого неба. Над деревней вились сизоватые дымки из труб. Легким медным облаком висела над домом деда Александриса вершина Астраса. Казалось, дунешь — и невесомое облачко оторвется от крыши и улетит, как пушинка одуванчика. Неужели эта самая вершина совсем недавно смотрела на него так грозно и устрашающе?
— С добрым утром, молодец! — В соседней двери показалась белая борода деда Александриса. — Как спалось? Сказать старухе, чтоб приготовила тебе поесть?
— Нет, спасибо! — отказался Космас.
Накануне его зачислили в комендантскую роту и поставили на довольствие. Однако мог ли он предполагать, что на этот раз его ждет нечто большее, чем завтрак на партизанской кухне.
Спускаясь к казарме, он услышал странный окрик:
— Эй, Космас! Ходи! Ходи!
Из окна английской миссии махал рукой Антони.
— Садись! — усадил он Космаса. — Сначала перекусим, а потом пойдем в штаб. К нам приехал майор Квейль.
Квейль был рад столь скорой встрече с Космасом.
— Майор Антони уже рассказал мне, что миссия приобрела нового и очень хорошего переводчика. Он весьма лестно отозвался о вас. Но где ему знать, что мы уже знакомы! И мог ли он догадаться о вашей истории со Стивенсом!
— Вы уверены, что это был Стивене? — спросил Космас.
— Это не трудно установить, — отозвался помощник Антони, капитан Пирс.
— Может быть, он тоже в Греции?
— Нет! Стивене сейчас не в Греции, — сказал Антони. — Но когда-нибудь он непременно приедет, и вы увидитесь. Я уверен, что это он. Помнится, он рассказывал мне что-то подобное…
Стол уже накрыли. Теперь Космас своими глазами убедился, каким богатым оазисом была английская миссия на фоне голодающей армии и бедствующего крестьянства. Даже связной, рассказывавший Космасу о цыплятах, шоколаде и прочих яствах, не сумел бы вообразить тот стол, за который садился сейчас Космас. Сначала подали салаты и закуски. Потом куриный бульон с яйцом. Забытые или даже совсем неизведанные блюда.
Прислуживали за столом итальянец и гречанка по имени Паола.
От еды и вина красное лицо Квейля стало багровым, а светлые брови совсем белесыми. Антони пропускал рюмку за рюмкой и с каждым разом заметно веселел. И только капитан Пирс едва пригубил свой бокал. Его серые холодные глаза смотрели по-прежнему пристально и отчужденно. Пришла уже очередь жаркого, когда в столовой появился еще один офицер — лейтенант Уоррен. Он представился как студент-юрист, подсел к столу, но почти ничего не ел и совсем не притронулся к вину.
— Мне кажется, — обратился к Антони Квейль, — что Космас относится теперь к миссии и, как все переводчики, должен жить у нас.
— Разумеется! Что скажете, Космас? У нас вам будет неплохо!
— О, нисколько не сомневаюсь! Но я предпочел бы остаться в действующей части.
Лейтенант Уоррен понимающе улыбнулся.
— Ваше желание можно только приветствовать. Давно вы в горах?
— Всего несколько дней.
— Оно и чувствуется, — вставил Квейль. — Иначе не рвались бы в бой. Знаете, что творится сейчас на передовой?
— Нужно же кому-нибудь воевать! — снова улыбнулся Уоррен.
Квейль не ответил. Паола, бесшумная, гибкая, предупредительная, принесла сладкое, а потом кофе. Антони глянул на часы.
— Пора идти!
Вместе с Антони и Квейлем Космас встал из-за стола. Прощаясь, Уоррен дружески пожал ему руку.
— Я очень рад нашей встрече!
* * *
— Раз уж вы к нам заглянули, — сказал Спирос Квейлю, — я хотел бы вернуться к нашему недавнему разговору на дороге. Обстановка осложняется, но все можно поправить, если союзники сдержат свои обещания. Вот эти телеграммы, — Спирос поднял со стола толстую пачку бланков, — мы получили из наших частей за один только день. Мало того — нам ежеминутно звонят, требуют оружия, боеприпасов… Что мы им пошлем?
Майор Квейль сокрушенно покачал головой и кисло улыбнулся.
— Вот уж не думал, что поручение, с которым я приехал, окажется таким сложным. Меня уполномочили не дать, а взять у вас оружие…
Спирос терпеливо ждал, пока Квейль выскажется до конца. Зато генерал вспыхнул:
— Спроси-ка, что он хочет сказать?
— В районе Лукавицы ЭЛАС разоружил отряд майора Андреаса Вардиса. ЭДЕС протестует против этих незаконных действий и просит союзников принять на себя роль арбитра. Ознакомившись с обстоятельствами дела и посоветовавшись с Каиром, английская миссия считает, что требование ЭДЕС справедливо.
— А каково ваше мнение? — спросил Спирос. — Вы, как непосредственный свидетель, можете быть весьма компетентным судьей. Кто разогнал части ЭДЕС? Конечно, не ЭЛАС! Они сами разбежались после первой же атаки немцев.
— Вернее, имело место и то, и другое, — усмехнулся Квейль, — Вы не можете отрицать, что разоружали их…
— Многие офицеры и солдаты ЭДЕС сами сдавали оружие. Они разбегались по домам, и мы пропустили их через свою территорию, хотя имели полное право судить за дезертирство. Тех, кто пожелал воевать вместе с нами, мы приняли. Они находятся в действующих частях.
— Вот о них-то как раз и речь! Они должны снова вернуться в ЭДЕС. Командование ЭДЕС поручило майору Вардису собрать их и встать во главе нового соединения.
— Если бы майор Вардис захотел вернуться в ЭДЕС, препятствовать ему никто не стал бы. Но он решил остаться. Майор убежден, что его место в ЭЛАС.
— Я с ним согласен, — заметил Антони. — В создавшейся обстановке его выбор был, безусловно, правильным.
— И все же, — сухо сказал Квейль, — я обязан разобраться в этом лично. Прошу вас, пригласите Вардиса в английскую миссию.
— Хорошо, — кивнул головой генерал, — сегодня же свяжусь с Вардисом и попрошу его в ближайшие дни заехать на Астрас.
Англичане поднялись. Прощаясь, Антони заверил генерала, что засыплет Каир телеграммами и в конце концов оружие пришлют. «Для меня это уже вопрос чести», — сказал Антони, и на генерала эти слова произвели хорошее впечатление.
— Я, кажется, начинаю верить, что этот Антони порядочный человек.
В слово «порядочный» генерал вкладывал очень большой смысл. Гораздо больший, чем принято. Оно вмещало в себя все достоинства, которыми должен обладать хороший боевой друг, и прежде всего прямоту и бескорыстность.
— Откуда я знаю! — откликнулся Спирос. — После истории с Томпсоном я решил не делать поспешных выводов.
— Нашел с кем сравнить! — фыркнул генерал.
— Кто такой Томпсон? — поинтересовался Космас.
— Предшественник Антони. Пробыл у нас в дивизии несколько месяцев. Не знаю, что думал о нем Спирос, а я, честно говоря, считал его лучшим своим другом. И все было хорошо, пока в один прекрасный день к нам не попала его зашифрованная телеграмма. Расшифровали мы ее и узнали, что вместо оружия Томпсон запрашивал взвод парашютистов. Просил, чтобы выбрали ночь потемнее и чтоб десантники имели при себе ножи.
— Зачем?
— Чтобы перерезать нас, как туземных вождей! Кто знает, сколько несчастных на его совести!
— Ну, а чем это кончилось?
— Мы заявили протест. Томпсона отозвали в Каир. У нас он был капитаном, а там стал майором.
Развязка истории была неожиданной, и генерал закончил ее басовитым хохотком. Вместе с ним смеялся и Спирос.
— Ничего удивительного, если наш Антони скоро станет подполковником!
— Ну, нет! Антони из другого теста. Он выглядит порядочным человеком.
По правде говоря, Космасу тоже понравился Антони, во всяком случае, больше, чем Квейль.
— Вы правы, — согласился Спирос, — разница между ними есть. Но боюсь, что эта разница — в тактике…
Из соседней комнаты его позвали к телефону. Едва Спирос вышел, дверь снова отворилась и на пороге появилась белокурая стройная девушка в партизанской форме. Она приложила руку к пилотке и поздоровалась с генералом.
— О, добро пожаловать, Элефтерия! — обрадовался генерал. — Иди-ка сюда, Космас, я познакомлю тебя с самой славной девушкой нашей дивизии!
— Да мы уже знакомы! — улыбнулся Космас. — Вместе ночевали!
Он обернулся к генералу и встретился с его удивленным, строгим взглядом.
IV
На большом камне у входа в казарму сидел и грелся на солнышке Керавнос. Он чистил револьвер.
— Привет афинянину! Куда ты запропастился? С самого утра о тебе спрашиваю: не видали, не слыхали? Начал уже опасаться, не зацепила ли тебя какая шальная пуля. Жаль, думаю, хороший револьвер пропадет.
— Когда же вы пришли? Ночью?
— Ночью. Вздремнули часок и снова уходим. Будь здоров!
— Куда?
— До шоссе…
— Я тоже с вами!
— Отпросишься — возьму.
— Отпрошусь! Когда выходим?
— Часа через два. Если только связной не задержит…
Связной Керавноса пропал еще с ночи. Ему поручили конвоировать пленных немцев, и, по всем расчетам, в деревню они должны были явиться к утру…
* * *
— Иди себе с богом, — благословил Космаса генерал. — Скажем Антони, что ты уехал, и приостановим на денек-другой эту говорильню. Вернешься — тогда все сразу и обсудим…
На пути в казарму Космас встретился с Уорреном. Уоррен был верхом на лошади. Космас плохо разбирался в лошадях, но этой лошадью нельзя было не залюбоваться. Темно-рыжая, с белой звездой на лбу и белыми чулочками над каждым копытом, с густой гривой и гладкой, холеной шерстью. Сытая, породистая, как и всадник. Странно, неуместно выглядели они на фоне дикого горного пейзажа и убогой деревушки, куда забросила их судьба. Гордо подняв голову, раздувая ноздри, лошадь нервно перебирала ногами — того и гляди сорвется со скалы и стремительной стрелой пронесется над равниной. Уоррен, напротив, был спокоен и приветлив, как юный дьякон.
— Учусь верховой езде, — весело сказал он Космасу. — Жаль, место не очень подходящее.
— Чуточку терпения! Скоро спустимся в долину.
— Непременно! Вы здесь новичок и, наверно, скучаете? — Уоррен хотел соскочить на землю, но лошадь поднялась на дыбы, и ему пришлось ухватиться за гриву.
— Скучаю? Конечно, нет! То есть не успел еще и, надеюсь, не успею. Постараюсь поскорее сбежать в часть. А там не до скуки.
— Да, там не заскучаешь… Зато в этой деревне… Заходите как-нибудь вечером. Поговорим, музыку послушаем. Заходите сегодня…
— Сегодня я иду с партизанами.
— Правда? — Уоррен натянул поводья. — Можно я пойду с вами? Я люблю приключения… Ваши партизаны замечательные парни… Мне очень хотелось бы пойти…
— А почему бы нет? Вот только разрешит ли Антони?
— Антони? — В голосе Уоррена послышалось удивление. — Разрешит! Когда мы выходим?
Космас не успел ему ответить. С другого конца деревни донеслись громкие крики. Оглушительно лая, туда устремились все собаки Астраса. По улицам бежали крестьяне и партизаны. Лошадь Уоррена рванулась и стремглав понеслась по склону.
Космас побежал следом. Сокращая путь, он перемахнул через несколько заборов. Окруженная толпой крестьян и партизан, в деревню входила странная процессия — трое раздетых донага немцев и связной Керавноса, тащивший на спине их одежду. Немцы ежились от холода и стыда. Их лица посинели, на теле проступали большие фиолетовые пятна.
Крестьянки, ругая связного, разбегались по домам. На улице появился рассерженный Керавнос.
— Поскорее уведите их в дом! Если генерал увидит…
Как ни старался Керавнос скрыть это происшествие, генерал дознался. Он отчитал Керавноса за то, что пленных конвоировал только один партизан, и приказал немедленно вызвать виновника. Перед изумленным генералом предстал подросток лет пятнадцати.
— Как тебя зовут? — смягчаясь, спросил генерал.
— Гермес…
— Ты что же это, Гермес, натворил? Издеваться над пленными нехорошо, нечестно. Разве это подходящая мера наказания?
— А я и не думал их наказывать, — оправдывался Гермес. — Я раздел их, чтоб не сбежали! Их трое, а я один! Вот я и велел им раздеться. Без порток не убегут!
V
За околицей их догнал Уоррен с «томпсоном» и солидным запасом патронов. Он сиял, как юнец, вырвавшийся из-под назойливой опеки.
Солнце спряталось за скалами. Сумерки слетали тихо и незаметно. Распростершуюся внизу долину постепенно заполняла ночь. Оттуда поднимались прохлада и туман. Вот уже заволокло реку, и только местами ещё поблескивают стеклянные глаза воды.
— Как мне наскучили эти унылые скалы! — вдруг признался Уоррен.
Он взглянул на Космаса и улыбнулся.
— Греки очень обидчивый народ. Стоит сказать что-нибудь дурное о вашей стране, как вы уже оскорблены в лучших чувствах. У всех народов есть своя гордость. Но у средиземноморцев это уже болезнь. Может быть, поэтому вы особенно симпатичны. Так вот, я не хочу тебя обидеть…
— Я не из обидчивых. Так что не ломай голову над выражениями, говори напрямик. Не такая уж беда, если наши горы пришлись тебе не по вкусу…
— Не могу сказать, что не по вкусу. Если бы я приехал в Грецию в мирное время, то не отказался бы провести несколько дней в горах. Несколько дней, а не лет. А я здесь уже два года.
Космас посмотрел на Уоррена. Неужели этот щеголеватый, подтянутый англичанин уже два года скитается по горам?
— У вас есть очень красивые места, — продолжал Уоррен, — скажем, на островах Эгейского моря, я побывал и там. Но какая повсюду бедность! И в больших городах то же. Я не так-то уж много путешествовал, но теперь, во время войны, был в Египте, Сирии, Турции, И там, как и у вас, страшная отсталость.
— Ты приехал к нам в трудное время. Мало стран так пострадало от войны и оккупации, как Греция.
— Это правда. Но ведь нищета здесь не временное бедствие, а давнее, постоянное зло. Возьмем деревни, те, что не пострадали от войны. Полуразвалившиеся хибары, огромные семьи… Едят травы! Ну, посуди сам — далеко ли они ушли от наших предков? Не станешь же ты говорить, что все это из-за войны?
— Ты забываешь, Уоррен, что грекам никогда не давали распорядиться своей судьбой по-своему…
— Знаю. Англия сыграла в вашей судьбе не лучшую роль… Но можно ли по сей день мириться с такой жизнью? Тот, кто склоняется перед несправедливостью и не пытается постоять за себя, лучшего и не заслуживает! Я могу его пожалеть, но я же буду его презирать!
Такой проповеди Космас не ожидал. Никогда бы он не подумал, что сдержанный и уравновешенный англичанин способен на такие резкие суждения… Закончить разговор им помешали.
Спуск был крутой и опасный, тьма сгущалась, и Керавнос то и дело окликал их — боялся, что они оторвутся от группы. Потом, когда опасность миновала, речь зашла о другом. Уоррен говорил, что война скоро кончится и он вернется к своей юриспруденции.
Из его слов Космас заключил, что в английской миссии он занимает довольно независимое положение. Ничего более определенного Уоррен не сказал. Внутренние дела миссии хранились в тайне, и он был явно не расположен затрагивать эту тему. Однако ни для кого в дивизии не составляло секрета, что английская миссия, по существу, находится в ведении контрразведки. Космас слышал, что существует некая «служба 133», тесно сотрудничающая с Интеллидженс сервис. Говорили, что большинство англичан, прикомандированных к партизанским частям, — агенты этой службы. Говорили, что есть еще одна служба — ISLD, штаб которой расквартирован в Палестине. Эта служба имела своих агентов в Греции, они контролировали работу английских миссий. У Космаса не было никакого желания копаться в этих загадочных вопросах, да и Уоррен при одном упоминании о них стал замкнутым и немногословным.
* * *
Наступила ночь. Они с трудом различали спину впереди идущего. Под ногами хрустел снег. Космас поднял глаза и только сейчас заметил, что небо усеяно мелкими частыми звездочками. За густой мглой он угадывал массивные громады незнакомых гор, внизу клокотал поток.
Керавнос приостановился, подождал, пока они поравняются.
— Как дела? Не выдохся еще англичанин?
Уоррен был бодр и полон сил.
— Пусть он запишет меня в свой взвод! Нужны ему добровольцы?
— Отчего не записать? Запишу! Но здесь его не будут кормить котлетками, пусть подтянет ремешок! Голод не тетка!
— Ничего, привыкну! — смеялся Уоррен.
Реку перешли вброд. Река была широкая, дно в мелкой гальке. Потом полезли в гору. Подъем оказался глинистым, ноги вязли в грязи. В голове цепочки о чем-то оживленно спорили, Космасу даже показалось, что ссорились.
— Нет, не ссорятся, — сказал Керавнос. — Фокоса, наверно, дразнят.
Фокос был самым старшим во взводе Керавноса и среди молодежи казался совсем стариком. Однако держался он бойко и за словом в карман не лез.
— Зелены вы еще, — доносился его хрипловатый голос. — Разве можно одних мальчишек посылать? Поэтому меня к вам и приставили… Старая гвардия — это вам не шутка!
— Что за человек этот Фокос? — спросил Керавноса Космас.
— Морской волк из Пирея! Болтун, каких свет не видывал!
Трудный подъем остался позади. Керавнос объявил Привал. Уоррен угощал сигаретами.
— Мерси! — поблагодарил Фокос. Он посмотрел на марку, понюхал табак и остался доволен. — Дамская! Чего только не напоминает мне этот аромат! Помню, первый раз попробовал я дамскую сигарету в Лондоне в двадцать четвертом…
— А ты много, наверно, поездил, товарищ Фокос? — спросил Космас.
Старик улыбнулся, задумчиво и грустно. Его маленькие хитрые глазки еще глубже ушли под тяжелые рыжеватые брови.
— На море родился, на море вырос, на море жизнь свою прожил. Поскитался на своем веку. Если надумаешь объехать те моря, что я избороздил, всю жизнь проездишь, помрешь, а до конца не доберешься.
Черноволосый и смуглый, с дубленной ветрами и морем кожей, он чем-то напоминал Космасу выброшенный на сушу старый, рассохшийся баркас.
Привал был коротким. Керавнос торопился. К рассвету он рассчитывал добраться до места. Территория, контролируемая партизанами, осталась позади, и группа двигалась в полной тишине, соблюдая все меры предосторожности. Так, без единой передышки, они шагали всю ночь, пока не вышли к заброшенной лесной сторожке. Здесь им предстояло переждать день.
— Костер не разжигать, из сторожки не выходить, говорить шепотом, — приказал Керавнос. — Единственный наш козырь — внезапность. Если нас заметят, дело проиграно. Ударим ровно в полночь. Вон там, за холмом, шоссе. Возле моста жандармский пост. Пост нужно снять, мост взорвать, а дорогу заминировать. За полчаса управимся. Если не управимся, замешкаемся — пиши пропало.
* * *
Атака на мост произошла ровно в полночь. Захваченные врасплох, жандармы сопротивлялись слабо. Сначала они отстреливались, но потом оставили пост и бежали. Несколько человек сдались в плен. Космас и Уоррен спустились к мосту вместе с саперами. В мешках они несли взрывчатку и мины.
— Давайте помогу, — с готовностью предложил Уоррен. — Я в этом неплохо разбираюсь.
Саперы отказались наотрез. Они сложили свой опасный груз возле развороченного партизанскими гранатами домика жандармов. Посторонним велели отойти. Командир саперов Пелопидас ловко и проворно, совсем как фокусник, вынимал мины из мешка, вставлял головки, подводил шнур. Под опорами моста уже рыли гнезда. Несколько саперов пошли минировать дорогу.
— Запаздываем, — нервничал Керавнос. — Как бы нас день не застал!
Холодный ветер пронизывал насквозь. Здесь, в низине, и воздух был какой-то особенно промозглый. Керавнос и Космас присели у стены жандармского домика. Керавнос достал трофейную пачку сигарет.
Вдруг с высотки, где дежурили наблюдатели, раздалась отрывистая пулеметная очередь. По этому звуку партизаны узнали свой пулемет. Полчаса назад туда, в сторожку, увели под конвоем пленных жандармов.
— Пытались, наверно, удрать! — сказал Керавнос. — Раз наши больше не стреляют, значит, не упустили.
Занимался рассвет. За низкими серыми облаками начали вырисовываться горы. Когда наконец потный от напряжения Пелопидас доложил, что все готово, прибежал один из сторожевых. Партизанский патруль заметил на дороге автобус.
— Если немецкий, — обрадовался Пелопадис, — подорвем вместе с мостом!
Автобус был рейсовый, маленький и дряхлый. Партизаны остановили его задолго до того, как он приблизился к заминированному участку. Керавнос побежал выяснять, куда и зачем направлялись пассажиры.
Время шло. Керавнос не возвращался. Космас не утерпел и побежал следом. Еще издали он увидел удаляющийся автобус. Большая часть пассажиров толпилась возле дороги.
— А этих почему задержали? — спросил Космас Керавноса.
— Странные какие-то типы, подозрительные! На всякий случай заберем их с собой…
Пассажиры протестовали. В неясном утреннем свете их растерянные, испуганные лица казались особенно бледными.
— Зачем они нам? Пусть себе идут с богом…
— Они не с богом, а с чертом заодно! Везут с собой целый арсенал. Шофер сказал, что они всю дорогу честили ЭЛАС, а когда немцы устроили проверку, у них оказались спецпропуска. Нет, отпускать их нельзя, нужно разобраться.
— Куда они ехали?
— Врут, да не очень складно. Говорят, что ехали торговать. Не придумали ничего поумнее… Их тут целая шайка.
Пелопидас крикнул, чтоб они сошли с дороги и легли на землю. Едва они бросились навзничь, ухнул сильный взрыв. Яркая вспышка на мгновение ослепила Космаса. Не успел он оправиться от первого взрыва, как грянул второй, еще сильнее. Прижимаясь к сырому, грязному снегу, Космас прямо над головой услышал автоматную очередь. После оглушительных взрывов она прозвучала слабо и неприметно — так в мирной тишине дома слышен стук швейной машинки. Космас поднял голову — в полутора метрах от него на коленях стоял Гермес. Из дула его автомата струился белый дымок. В нескольких шагах, слева, будто под порывами ветра, колебалась какая-то тень. Она качнулась еще раз и бесшумно повалилась на снег. Разъяренный Керавнос вскочил и направил автомат на распростертых на земле людей.
— Говорите правду, а не то застрелю! Кто вы такие, куда ехали?
— Мы все скажем… Мы едем из Афин в части ЭДЕС.
— Кто он? — спросил Керавнос, указывая на убитого.
Имя, которое они услышали, заставило Космаса содрогнуться. Это был знаменитый террорист, младший из братьев Калогерасов.
— Снимите с них ремни, — приказал Керавнос. — Свяжите по трое.
* * *
Наверху, в сторожке, их ожидала еще одна новость. Часа два назад сюда забрел немецкий солдат. Его-то и застрелили из пулемета. Партизаны были расстроены.
— Он шел сдаваться… Жандармы потом рассказали…
Жандармы рассказали, что немец пришел на их пост вечером. Они догадались, чего он ищет в горах, и утром собирались заявить в немецкую часть…
Фокос вытащил бумаги убитого. Они были пробиты пулями и залиты кровью. Письма, фотографии, солдатское удостоверение. От фотографий остались клочья. За пятнами крови виднелись улыбающиеся лица. Уоррен разглядывал удостоверение.
Фамилия — Вагнер, 22 года, электрик из Лейпцига. На фронте с самого начала войны. Был во Франции, Югославии, России.
— Многих, наверно, убил, — сказал Уоррен. — Вот и на него нашлась пуля…
— Но он хотел сдаться.
— Мог бы это сделать и раньше!
— Где он? — спросил у партизан Космас. — Нужно его похоронить.
Немец лежал в кустах, там, где его остановила пулеметная очередь. Тут его и похоронили, накрыли ветвями, засыпали землей и снегом.
Далеко внизу виднелись серая лента шоссе и взорванный мост. Там лежал еще один убитый, но никому не пришло в голову, что нужно похоронить и его.
VI
На Астрас для встречи с англичанами приехал майор Андреас Вардис. В первую минуту Космас не узнал его — теперь Вардис носил мундир и отрастил бородку. Но все-таки это был он, тот самый офицер, которого Космас видел в афинской тюрьме. Космас напомнил ему вечер в переполненной камере и допрос итальянца. Вардис искренне обрадовался их новой встрече.
— Так, стало быть, мы с тобой старые знакомые. — И он сердечно похлопал Космаса по плечу. — Переходи в мой батальон, нечего тебе околачиваться по штабам.
— Я и сам хочу удрать! Думаю, что скоро вырвусь!
— Правильно! И прямо ко мне! К англичанам они пошли вместе.
— Я жду вас, майор, — радостно приветствовал его Квейль. — Один я отсюда не уеду…
Вардис сдержанно улыбнулся.
— Надеюсь, вы не думаете всерьез, что я служу в ЭЛАС по принуждению? Я весьма благодарен союзному командованию за интерес, проявленный к моей персоне, но возвращаться в ЭДЕС я не намерен.
— А что будет, если и другие офицеры последуют вашему примеру?
— Это будет единственно правильное для них решение! Только ЭЛАС ведет настоящую войну с немцами, а если укрепить ЭЛАС опытными офицерами, борьба будет еще успешнее. Разве не для этого все мы поднялись в горы?
— Конечно, конечно, — согласился Квейль. — Но неужели вы не видите опасности в усилении влияния ЭЛАС?
— Пока что я вижу опасность в разобщении партизанских сил.
Антони взял сторону Вардиса:
— Я присоединяюсь к вашему мнению, ЭЛАС нужно укрепить кадровыми офицерами…
— Мы еще к этому вернемся, — не уступал Квейль. — Не согласились бы вы заехать к нам в штаб?
— Я в вашем распоряжении. Но мне нужно будет договориться с командованием дивизии.
Когда они вышли от англичан, было уже темно. Космас пригласил Вардиса к себе.
— Надо ехать, — отказался Вардис. — В батальоне ждут. А как тебе понравился Квейль? Въедливый и настырный, словно вошь. Об ЭЛАС даже слышать не желает. Вот Антони вроде другого покроя. Сразу не разберешь — то ли просто разумный человек, то ли хитрый дипломат?
* * *
Через несколько дней Спирос вызвал Космаса в штаб и вручил ему папку с показаниями задержанных пассажиров:
— Посмотри — найдешь своих знакомых.
Космас развязал папку и как будто открыл дверцу в кладовую воспоминаний. Чуть ли не каждая бумага так или иначе затрагивала его прошлое. Многие из задержанных служили в застенке, где его истязали. Многие состояли в организации «Крестовый поход нации» — устраивали облавы на эамовцев, терроризировали университет и институты. Среди руководителей организации задержанные называли Аргириса Калогераса и Зойопулоса.
— Да, послужной список у них немалый, — сказал Спирос. — Смотри, пожалуйста, до чего же разные люди, разные судьбы! Антикоммунизм собрал их с бору да с сосенки и поставил всех на одну доску — мошенников и бродяг, уголовных преступников и аристократов… На один уровень, как в сообщающихся сосудах…
Задержанные рассказали, кто и как переправил их в горы. В Афинах проводилась кампания набора национально мыслящих патриотов в армию ЭДЕС. Эти подкрепления должны были усилить в ЭДЕС враждебные настроения к ЭЛАС и пресечь всякие попытки мирных соглашений между двумя армиями. «Национально мыслящие патриоты» выезжали из Афин, снабженные немецкими пропусками. С предыдущей группой, проследовавшей по тому же маршруту, в подразделения ЭДЕС направился Сарантос. Эту часть показаний Космас прочитал полностью. Человек, который упоминал о Сарантосе, участвовал в разгроме подпольной типографии. Он рассказывал, как выследили и схватили Сарантоса, как он выдал подпольщиков, как полиция засела в типографии и арестовала Космаса, как пытали Космаса в тюрьме и как он оттуда бежал. Из этих показаний Космас узнал и кое-что новое: на другой день после его побега Анастасис жестоко избил старика Манолакиса, и тот умер в тюремном подвале. Ненамного пережил его и Анастасис: несколько дней спустя его убили в схватке с эамовцами в Перистери.
Космас закрыл папку, но отрешиться от тревожных воспоминаний уже не мог. Как и тогда, в Афинах, появление Сарантоса показалось ему предвестием беды. Стоило этому человеку переступить порог типографии, и вслед за ним туда проникло предчувствие опасности, подстерегавшей их на каждом шагу. Тогда дурные предчувствия не замедлили оправдаться. Теперь же… Теперь зло казалось далеким и безопасным, но на сердце было по-прежнему сумрачно и неуютно. Сердце болело за Янну. Ей снова пришлось уйти в подполье, где каждый шаг сопряжен с риском, где ни днем, ни ночью она не будет знать ни отдыха, ни покоя.
— Когда ты ждешь Янну?
— Ты лучше не думай об этом, — посоветовал Спирос. — Никто не знает, как там у них пойдут дела. Не мучь себя понапрасну и не вешай носа. Я по своему опыту знаю, что беда чаще всего приходит оттуда, откуда ее не ждешь. Ты, скажем, ловишь ее у окна, а она уже вломилась в дверь.
* * *
В дверь постучали, и вошел хмурый, как туча, Квейль.
— Мы получили телеграмму из Центра. Группа греческих патриотов, направлявшихся в подразделение ЭДЕС, захвачена в плен бойцами вашей дивизии и содержится под арестом.
«Значит, Уоррен промолчал, — подумал Космас. — Они до сих пор ничего не знали».
— Переведи ему несколько показаний! — попросил Спирос.
Англичанин выслушал Космаса и явно расстроился.
— Не может быть, чтобы все они были преступниками! Как вы собираетесь с ними поступить?
— Отдадим их под суд, — ответил Спирос. — Вы можете встретиться с ними, они тут у нас недалеко…
— Да, мы к этому еще вернемся…
Эту фразу Квейль произнес почти механически. Он прибегал к ней всегда, когда беседа не давала ему желательных результатов. Но на сей раз и Спирос сказал, что к этому разговору непременно нужно будет вернуться. Что предпримет командование ЭДЕС? Устроит ли оно суд над теми преступниками, которые приехали с предыдущей группой и теперь находятся в рядах их армия? Им тоже предъявлены тяжелые обвинения…
Квейль ушел, обещав выяснить этот вопрос.
— Здорово мы огорчили сегодня Квейля, — засмеялся Космас. — Чего-чего, но этого я от него не ожидал. Заступаться за своих же врагов!
— Не забывай о законе сообщающихся сосудов.
VII
Четыре ночи подряд они жгли костры. Англичане нашли подходящую площадку и координаты сообщили в Каир. Антони так и сиял от радости. Впервые за восемь месяцев его пребывания в дивизии из Каира должны были прислать оружие. Он явился в штаб, чтобы лично возвестить об этом.
— Браво! Браво! — поздравил его генерал. — Вы сдержали свое слово. Лучше поздно, чем никогда.
Оружие прибывало в самый критический момент, когда командование дивизии со дня на день собиралось объявить об отступлении. Дивизия должна была оставить эту область и отойти в Северную Грецию. Предполагалось, что там она соединится с основными силами ЭЛАС. Помощь со стороны англичан могла изменить все планы.
Целый день партизаны и крестьяне собирали хворост.
— Поджарим мы нынче Гитлеру пятки! — крикнул Космасу комендант дед Александрис. — Только бы не обвели нас вокруг пальца эти прощелыги!
В одиннадцать вечера Антони приказал разжечь костры, и через несколько минут ночной мрак прорезали длинные языки пламени. Партизаны взялись за руки и с песней пошли вокруг костров. Издалека послышался гул самолетов. Все насторожились. Иногда по ночам над свободными областями появлялись немецкие самолеты, и вместо парашютов с оружием на партизан, разжигавших костры, обрушивался пулеметный огонь.
Небо было густо-черным, как деготь; казалось, звезды утонули в его пучине. Однако не прошло и минуты, как партизаны определили, что самолеты английские.
— Да, да, наши! — согласились и англичане. — Скажи им, Космас, чтоб подбавили огня.
Все бросились к кострам — и партизаны, и англичане. Они кидали в огонь сухие ветви, пламя взметалось все выше и выше. Радость и тревога сменяли друг друга. Глядя на потные, взволнованные лица людей, то выплывавшие из темноты, то вновь исчезавшие. Космас вдруг подумал, что с таким же, наверно, нетерпением и ожесточением боролись за свою жизнь моряки, выброшенные на необитаемый остров. Так же лихорадочно разжигали они на берегу костры, чтобы подать сигнал далеким кораблям.
Рокот нарастал. Вот он покрыл их с головой. Все замерли. Но ничего не произошло. Самолеты удалялись, их гул понемногу стихал, а потом и совсем растворился в тишине. Англичане подождали-подождали, выругались и пошли спать. А партизаны дежурили до самого утра, надеялись, что самолеты вернутся.
На вторую ночь самолеты совсем не появились. На третью ночь в тот же примерно час послышался знакомый гул, но, как и в первый раз, самолеты пролетели мимо.
— Если они и сегодня нас надуют, — сказал дед Александрис, — я поймаю этого Антониса и сварю его, как рака.
Англичане тоже были расстроены, и больше всех Уоррен. Он каждую ночь приходил на площадку и оставался до самого утра.
— Скажи откровенно, — спросил его Космас, — сбросят нам оружие или это все одни только разговоры?
— Нет! — решительно ответил Уоррен. — Должны сбросить. Но эти летчики… — И Уоррен обругал летчиков, которые не могли разглядеть такое зарево.
Оружие сбросили на четвертую ночь. Рокот самолетов послышался вдруг над самой головой. Самолеты пролетели очень низко и тотчас вернулись. Они долго кружили над кострами.
— Бросают! Бросают! — закричали партизаны и рассыпались по склону в поисках ящиков.
Нашли они их только на рассвете — десяток ящиков разной величины, обернутых брезентом и крепко перевязанных проволокой. Ящики были тяжелые, и вскрыли их на месте. В самых крупных были итальянские минометы. С благоговейной осторожностью партизаны раскладывали оружие на брезенте. Помощник Антони, капитан Пирс, составлял опись. В полдень для сборки минометов на Астрас приехали двое офицеров-артиллеристов. Старший из них, капитан Герасиматос, осмотрел части минометов и пошел честить всех святых, начиная со святого Герасима.
— Что-нибудь не так? — спросил Космас.
— А ну-ка, узнай у него, — Герасиматос глазами указал на Пирса, — может, еще есть ящики, может, вы не все нашли?
— Нет! — ответил Пирс, — Все, что сбросили, здесь, А почему он спрашивает?
— Почему… почему! — пробормотал Герасиматос и снова выругался. — Потому, что ствола четыре, а лафета только два. На что мы их будем ставить — на руку, что ли? А где ножки? Ножек не видали?
Ножек не было совсем. Снаряды предназначались не для итальянских, а для английских минометов.
— На кой черт они швырнули нам этот хлам? — недоумевал второй артиллерист — Афанасиу. — Итальянские мины они, наверно, сбросят куда-нибудь с английскими минометами, а мы так и останемся со стволами и с фигой… Что еще они там сбросили?
Кроме минометов сбросили три ящика с лентами для «бремов», тюки с одеждой и ботинками. Ботинки были крепкие, всех размеров, но только на правую ногу.
— Левые ноги англичанам не по душе, — съязвил Герасиматос. — На левые ноги мы не имеем права! Но мы, греки, упрямые, от ног своих не отказываемся — вот они и проучили нас: походите, дескать, в одном ботинке.
В других тюках были брюки, кители и пилотки. Тюк с пилотками развязался в воздухе, и теперь партизаны собирали их по всему склону.
Герасиматос снял старую пилотку и выбрал себе новую.
— Тут они уже ничего не могут поделать. Хотят или нет, а носить эти пилотки будут левые головы!.. Вот видишь, в самую пору пришлась.
* * *
После обеда Космаса нашел Уоррен.
— Ты сейчас не занят? Пойдем прогуляемся!
Они направились в горы по занесенной снегом тропинке. Редко кто ходил по этой тропе зимой, снег здесь был неутоптанный, ноги проваливались по щиколотку. Когда деревня скрылась из виду, Уоррен остановился. Он предложил Космасу сигарету и тоже закурил.
— Скажи мне начистоту: как вы смотрите на роль англичан? Как расценивают ваши партизаны наше участие в партизанской войне?
— Давай сначала выясним, о каком участии идет речь, — отозвался Космас. — Никакого участия я не вижу… по крайней мере за то время, что нахожусь в горах. Разве только повышенный интерес Квейля к нашим разногласиям с ЭДЕС и вчерашние посылки. Можно было бы добавить к этому, что Антони усердно занимается новогреческим, но за последнее время…
Уоррен натянуто улыбнулся.
— Я хотел поговорить серьезно. Ты знаешь, я в Греции давно, с тех пор, как сюда приехала первая группа английских офицеров. Мы приехали воевать и понесли немалые потери — я имею в виду не боеприпасы, а кровь, пролитую в Греции моими соотечественниками. В этих диких горах вместе с греческими партизанами похоронено много англичан. Мы даже не оставляли на могилах их имена, чтобы уберечь от надругательства врага…
— Греки не забывают о них. Но война продолжается, ее исход еще не решен. И я оцениваю сегодняшнее положение вещей.
— Я тебя понимаю. К сожалению, многие наши офицеры проводят очень близорукую политику. Это те, кто приехал сюда позже, чтобы пожать плоды чужих трудов. Но не суди по ним об Англии и англичанах…
— Англичан они не представляют, это правда. А вот насчет Англии. Официальную Англию, ее политику по отношению к Греции, они представляют очень достоверно.
— И это тоже не так. Вся беда в том, что в Англии плохо информированы о переменах, которые произошли в Греции за время оккупации. Там живут старыми понятиями. Что такое ЭАМ, каковы его позиции — все эти сведения поступают туда в искаженном виде. ЭАМ преподносится как антианглийская партия. Отсюда и проистекает известная тебе политика. Но скоро все станет на свое место…
Уоррен немного помолчал и потом вдруг добавил:
— На днях я распрощаюсь с тобой, может быть, и не придется больше увидеться!
— А куда ты собираешься?
— Это целая история! Нелепая и комическая! Поеду доказывать, что я не коммунист! Такие обвинения сейчас в моде, но со мной этот номер не пройдет. К тому же у меня будет возможность рассказать правду о здешних делах. Поэтому я и говорю тебе: не торопись делать заключение об Англии и англичанах. Мы гораздо лучше, чем вы думаете, не суди по Квейлю или даже по Антони…
Уоррен вдруг замолчал и прислушался. За выступом скалы, скрывавшим от них деревню, еле слышно хрустнул снег.
— Там кто-то есть, — проговорил Уоррен и сделал два шага к скале.
Тогда из-за выступа показалось пунцовое лицо капитана Пирса.
— Вы тоже здесь прогуливаетесь? — спросил он с плохо разыгранным удивлением.
Лицо Уоррена стало замкнутым и жестким.
— Да, здесь! Мы не хотели утомлять вас и не пошли дальше. Я не сомневался, что вы составите нам компанию…
— Да, да… Я увидел, что вы направляетесь в горы… В деревню они вернулись втроем.
VIII
В новогоднюю ночь партизаны решили устроить большой праздник — проводить трудный старый год и встретить новый. Все верили, что это будет первый год свободы.
Подготовка к вечеру потребовала массу хлопот. Хуже всего было с помещением. В деревне не нашлось ни одного дома, который вместил бы всех. К счастью, в разгар подготовки из поездки по действующим частям на Астрас вернулся политрук дивизии Бубукис. Родом он был с Ионических островов и здесь, в диких горах, заметно выделялся мягкими и тонкими манерами, а также благоговейной любовью к искусству. Космас слышал, что Бубукис прошел через тюрьму Акронавплии. До этого он учился в Высшей школе философских наук и работал бухгалтером в банке. В «Ризоспастисе» печатались его заметки за подписью «Пахарь». В первый же год диктатуры Бубукиса арестовали. В тюрьме он не терял времени попусту и завершил свое марксистское образование. Организаторский опыт Бубукиса оказался чрезвычайно ценным. Помещение сразу нашлось. Бубукис остановил свой выбор на полуразрушенном, заброшенном доме. Одна стена у него совсем обвалилась. С этой стороны Бубукис приказал пристроить большую сцену, — таким Образом, весь дом отходил под зрительный зал. Партизаны вынесли мусор, побелили стены, написали лозунги и вывесили портреты глав союзных держав.
* * *
Поздно вечером, когда бойцы уже собирались в зале, Антони известил командование о том, что офицеры миссии по срочному вызову выезжают в Центр. Он просил дать сопровождающих.
— Что за спешка? — удивился генерал. — На ночь-то глядя? Будь добр, Космас, поди скажи командиру роты, пусть выделит бойцов.
Вместе с сопровождающими Космас подошел к дому английской миссии. В окнах темно. Дверь на запоре. За дверью — ни звука.
— Может, они уже уехали? — спросил Космас часового-партизана.
— Нет, все здесь. Только что утихомирились. Кричали, как очумелые.
Космас постучал. На стук выглянул радист, он вышел во двор и закрыл за собой дверь.
— Я привел партизан, Генри, — сказал Космас. — И еще я хотел пригласить тех, кто останется. Если смогут, пусть приходят к нам на вечер.
— Едва ли мы сможем! Партизаны пусть обождут здесь.
— Антони тоже уезжает?
— Точно не знаю.
— Ну, тогда до свидания! И с Новым годом!
— С Новым годом!
* * *
Вечер открыл Бубукис. Он произнес речь, которая, к счастью, была очень краткой и сердечной. Потом все хором спели несколько песен. Сшитый из простыней занавес раздвинулся, и на сцену вышла Элефтерия.
— «Вождь» — стихотворение Костаса Варналиса. Читает товарищ Керавнос!
Неравное не сразу согласился выступить на вечере. Многодневные уговоры Космаса не действовали. И тогда Керавноса попросила Элефтерия. Керавнос смутился, яркая краска проступила на его заросших щетиной щеках. Отказать Элефтерии он не посмел. Несколько ночей подряд заучивал он стихи у костра, но, когда вышел на сцену, растерялся. Первые слова застряли у него в горле.
Однако боевой дух стихов вернул ему самообладание.
Пришел не утешать я… нет!
Принес я людям сталь кинжала!{[76]}
Керавнос вздохнул, как будто после мучительных блужданий выбрался на знакомую дорогу. Голос его загремел, руки сжались в кулаки. Со сцены он сошел под бешеные аплодисменты публики.
— «Падшая»! — объявила Элефтерия следующее стихотворение.
Пораженный генерал обернулся к Бубукису:
— Что? Что она сказала?
— Это замечательное стихотворение Галатии Казандзаки. Бичует один из страшных пороков старого общества…
В Смирне я — Мелпо,
В Салониках — Иро,
Когда-то в Волосе — Катина,
Ныне — Лела.
Декламировала партизанка, которую звали Лаократия, неграмотная девушка из ближней деревни. Читала она выразительно, с душой, порой ее голос срывался от волнения, но это только усиливало впечатление от горькой и гневной исповеди стихов. Слушатели тоже были взволнованы.
Концерт шел с большим успехом. Декламаторы и певцы сменяли друг друга. После сатирического обозрения на сцену выскочил парикмахер Фигаро, он объявил, что споет арию из итальянской оперы. Когда ему предлагали выступить, Фигаро отказался. Он сказал, что из-за песенок его уже однажды окрестили «Фигаро», — хватит. Но теперь он не усидел на месте. Сильным и гибким голосом Фигаро нельзя было не залюбоваться, однако ария оказалась очень длинной. Из всех присутствующих итальянский знал только Бубукис. На его губах играла лукавая улыбка.
— Сочиняет, наверно? — тихонько спросил Кесмас.
— Ну и мошенник! — восхитился Бубукис. — Смотри, как заливается, а ведь из всей арии знает одну только строку. Давай похлопаем ему, а то сам он никогда не кончит.
Неожиданно для всех с места встал генерал:
— Я расскажу вам балладу об одном старике — борце революции двадцать первого года{[77]}. Только на сцену не пойду, грех мне на старости лет артистом делаться… Баллада называется «Матрозос», написал ее поэт Георгиос Стратигис.
Жил-был на Спецес-острове
Старик седой и сгорбленный,
Что твой платан, придавленный
К земле ветрами буйными.
Влачил судьбу он жалкую,
И только взор, взор огненный,
Метавший стрелы-молнии,
Напоминал, что тот старик
Слыл капитаном удалым,
О нем заслышав, трепетал
Ага, паша и сам султан…
Неторопливо и скорбно рассказывал генерал печальную историю одного из славных героев революции. Он отдал родине свою молодость, свои силы, свое состояние и на старости лет оказался всеми забытым и нищим: Но, как и прежде, Матрозос умеет постоять за свою честь. Оскорбленный надменным вельможей, старый моряк дает ему независимый и достойный ответ:
— Ох, кабы нищие, как я,
Не проливали кровь в бою,
И ты, и братия твоя
Забыли бы про спесь свою!
Партизаны восторженно захлопали. Между тем стрелки часов приближались к двенадцати. Над занавесом замелькала красная шапка Деда Мороза, но его выход был назначен ровно на двенадцать, и Элефтерия объявила выступление хора. В этот момент в зал вошел патрульный, он пробрался к генералу и Спиросу. Те сразу же встали и направились к двери. Песня оборвалась.
— Почему?! — крикнул генерал. — Продолжайте, продолжайте!
Хор снова запел, но никто уже не веселился. Через некоторое время связной вызвал Космаса.
* * *
Лунный свет переливался на снегу. Было светло. Неподалеку от пристроенной сцены Космас увидел генерала, Спироса и двух партизан. Один из них держал под уздцы беспокойную лошадь, она била снег копытом и дергала головой. Это была лошадь Уоррена.
— Послушай, Космас, — сказал Спирос, — между англичанами на дороге произошла перестрелка.
Космас понял с первых слов:
— Убили Уоррена?
— Да. Послушай, что говорят товарищи, и поди извести англичан…
Партизаны мало что могли рассказать. Англичане велели им ехать впереди, так что своими глазами они ничего не видели. Они услышали позади автоматную очередь, поехали было обратно, но столкнулись с Пирсом и Квейлем. Англичане галопом промчались мимо и приказали партизанам следовать за ними. Тогда партизаны разделились: двое вернулись, чтобы сообщить в дивизию о случившемся, остальные поехали с англичанами. Те, что вернулись, поймали на дороге обезумевшую лошадь Уоррена. Самого убитого они не нашли.
— А с чего вы взяли, что он убит? — спросил Космас.
— Погляди! — Партизан подвел к нему лошадь. Седло и грива были в крови.
— И это под Новый год! — с ужасом проговорил генерал. — Убийцы! Мы имеем дело не с военными, а с бандитами! Поди, Космас, расскажи Антони, он, кажется, остался здесь…
Антони действительно остался в деревне, но к Космасу он не вышел. Дверь снова открыл Генри. Он невозмутимо выслушал сообщение Космаса.
— Офицеры были навеселе, наверно, повздорили по дороге…
Генри было безразлично, поверил или не поверил ему Космас. Однако, узнав, что партизаны поедут разыскивать труп убитого, он изъявил желание присоединиться к ним.
Поиски были долгими. Наконец, следуя от одного пятна крови к другому, партизаны забрели в глубокую расщелину. Здесь они нашли труп Уоррена. Автоматная очередь прошила лицо и грудь и сделала его неузнаваемым. Карманы Уоррена были пусты. Исчезла и маленькая кожаная сумка, с которой он никогда не расставался. Остался только медальон на золотой цепочке…
Когда они выбрались на дорогу, был уже день. Первый день нового года.
IX
Первые дни нового года пролетели в лихорадке надвигающейся беды. Дивизия готовилась к отступлению. Бои еще продолжались, но это были последние бои, которые могли дать партизаны. Антони уже сидел на чемоданах. За ближними горными грядами со стороны Шукры-Бали день ото дня сильнее гремела канонада.
В один из тех дней на Астрас прибыл член командования дивизии — политический представитель Центрального Комитета ЭАМ. Это был Ставрос. Он ездил на конференцию с англичанами и делегатами националистических соединений.
Космас заметил его издали, — грузный и высокий, он сидел в седле как-то неловко. Офицеры дивизии в шутку прозвали его митрополитом. На первый взгляд это прозвище казалось странным, а между тем в Ставросе действительно было что-то от величественных митрополитов православной церкви, — такой же сдержанный и немногословный, он говорил всегда очень многозначительно и пересыпал речь афоризмами. Разумеется, митрополитом его называли за глаза, но в этом не было ни иронии, ни насмешки.
Ставрос медленно слез с лошади. Он наконец тоже заметил Космаса.
— Ну, как дела, Космас? Зайди через час, надо поговорить.
Час спустя Космас застал Ставроса и Спироса за чаепитием.
— Иди сюда! — позвал его Ставрос. — Вот тебе кружка, котелок. Пей. Потом доложишь, как это произошло с англичанином, которого убили под Новый год. Что он был за человек? Почему его убили?
Космас рассказал по порядку, как они познакомились с Уорреном, о чем разговаривали и, главное, о той беседе в горах, которую подслушал капитан Пирс.
— Англичане говорят, что он был коммунистом, — заметил Ставрос.
— Коммунистом Уоррен не был. Но он верил в необходимость сотрудничества с ЭАМ, и мне кажется, что именно эту его идею и расстреляли англичане под Новый год.
— Ну, положим, идею они не расстреляли! Помимо их желания существуют факты, и факты заставят англичан признать влияние ЭАМ. Исход дела решит соотношение сил, а не капризы Квейля и не знаю, кого там еще.
— Хорошо, если так, но ведь англичане не останавливаются перед убийством своих же офицеров, не согласных с их политикой. Что, если они применят эту тактику и к нам? — решился спросить у Ставроса Космас.
— Если бы да кабы… — недовольно протянул Ставрос. — Это любимый конек Спироса. Советую не перенимать. На «если бы да кабы» политику не построишь. А нам сейчас нужно единство, единство всех греческих партизанских сил. И единство союзников. Правда, англичане стараются его сорвать. Чего только они не делали на конференции, чтобы не допустить общего соглашения!
— Поэтому не мешает уяснить себе, — сказал Спирос, — насколько это единство вероятно. Где кончаются реальные возможности и где начинаются иллюзии. Жить иллюзиями в таких условиях очень опасно.
— Так, значит, конфликт?
— Идти на конфликт незачем. Но исключать его тоже нельзя. Сегодня им не нравится ЭЛАС, а завтра не понравится демократическая Греция. В конце концов, не надо забывать, что никогда еще мы не были так сильны, как сейчас.
— По двум дорогам сразу идти нельзя, — настойчиво повторил Ставрос. — И наша дорога — единство. Сами англичане на вооруженное столкновение не решатся. Это было бы для них политически невыгодно. И в то же время наши силы не настолько велики, чтобы выдержать, если столкновение произойдет… Только представь себе, что будет, если в один прекрасный день они бросят против нас свою технику!
— Я не ослышался, ты сказал «если»? — засмеялся Спирос.
Ставрос тоже рассмеялся. Он считал разговор оконченным.
* * *
Возле английской миссии стояли мулы. Партизаны грузили пожитки.
— О! Ходи! Ходи! — крикнул Космасу майор Антони. К нему снова вернулось доброе расположение духа. — Поедем с нами, наш путь надежнее.
— Боюсь, что мы во многом не сойдемся взглядами! — ответил Космас. — А разногласия в такой обстановке вещь рискованная. Вас будет много, а я один! Антони сделал вид, что не понял намека.
— ЭЛАС сражался героически, это будет признано историей.
Он сказал еще много хорошего об ЭЛАС, но слова его звучали как некролог. Накануне ночью, когда Космас разбудил его и передал приказ о перемещении английской миссии, еще не совсем проснувшийся Антони воскликнул: «Вот, стало быть, и кончилась эпопея ЭЛАС!» Космас заметил ему, что эти самые слова говорились уже не раз, в том числе и немцами… Теперь Антони старался сгладить впечатление от их ночного разговора.
— Генерал считает, что отступление временное, — сказал Космас. — Весной дивизия вернется в эти места и уже отсюда поведет наступление на долину.
— Конечно! Конечно! — согласился Антони. — Но мне не выпадет больше счастья посетить этот прекрасный уголок. Я получил назначение в Каир. Оттуда мы принесем вам свободу! Возможно, я увижусь с вашим другом Стивенсом. Что ему передать?
— Что я жду скорой встречи в Афинах, которые мы освободим вместе!
— Подождите минутку! — попросил Антони. Он поднялся по каменной лестнице и скрылся в доме. Через несколько минут он вернулся с изящным портсигаром в руках.
— Я хочу сделать вам подарок!
Космас стал отказываться.
— Нет! Нет! — настаивал Антони. — Прошу вас, возьмите!
Когда Космас явился с портсигаром в штаб, офицеры заинтересовались его содержимым.
— Что и говорить, красиво! А есть ли что-нибудь внутри?
Космас открыл портсигар. Он оказался пустым. В штаб вошел сапер Пелопидас. Он взял портсигар, повертел его и поскреб пальцем.
— Осторожно, это подарок! — предупредил его Космас.
— Такие подарки дарят туземцам! Игрушки, погремушки! Глянь-ка сюда!
Блестящая краска слой за слоем оставалась на пальцах Пелопидаса.
— Если хочешь знать, самая обыкновенная фанера! — Не может быть!
— Фанера! — твердил Пелопидас. — Не веришь — посмотри!
Он смахнул блестящую фольгу, портсигар в самом деле был из фанеры. Офицеры захохотали. Кто-то предложил сделать из подарка мишень. Космас хотел было возразить, но потом эта мысль понравилась и ему.
— Мишень так мишень!
Они отошли подальше от домов и установили подарок на одной из каменных глыб. Пелопидас отсчитал сорок шагов. Офицеры провели черту и стали стрелять по очереди.
В эту минуту показался Керавнос. Не доходя до черты, он на ходу снял автомат и выстрелил. Деревенские мальчишки с гиком бросились подбирать разноцветные обломки.
— Ну и молодец же ты! — восхитился Космас. — Я запишусь в твой взвод! Научишь меня стрелять так же метко!
Керавнос взял его за локоть.
— Пойдем поговорим! Есть дело!
* * *
Совсем поблизости разорвалось несколько снарядов, один вслед за другим. Дрогнула потрясенная земля. Всполошились крестьяне. Заголосили, забегали женщины.
— И до нашего двора добралась беда! — сказал дед Александрис. — Это что же будет, ребята? Дадим сжечь такую деревню?
Крестьяне тоже уходили в горы. Они знали, что немцы не оставят от деревни камня на камне. И, глядя в долину, на зарево пожара, они горевали о том, что завтра такое же зарево заполыхает над их домами.
— А где сейчас немцы? — спросил у Керавноса Космас.
— Откуда я знаю! Путь им теперь открыт. Но раньше завтрашнего дня можно не ждать, ночью они не сунутся.
Возле одного из домиков Керавнос взял Космаса под руку.
— Послушай, что я скажу! Мне приказали с десятью партизанами остаться на Астрасе. Людей я выбираю сам и нашел пока только девять. Пораскинь мозгами, кто будет десятый.
Керавнос посмотрел на него в упор горячим, нетерпеливым взглядом, толстые губы его дрожали в улыбке.
— Все еще думаешь, антихрист! — Керавнос не утерпел и сильно ударил Космаса по плечу.
Удар пришелся как раз по старой ране. Острая боль просверлила руку и как будто снова вспорола рубцы. Но вместе с болью нахлынула радость.
— Нам дали важное задание. — Керавнос больше не ребячился. Он стал серьезным и сосредоточенным. — Сегодня мы тоже уйдем из деревни, пока переберемся в горы… Пошли, посмотришь, кого я выбрал.
Из домика доносились оживленные голоса партизан. Космас сделал несколько шагов и остановился.
— Или я с ума сошел, или там разглагольствует Фокос!
— Быть не может! Кто ему велел остаться?
Керавнос шагнул к двери и сердито распахнул ее.
Навстречу ему поднялся Фокос.
— Погоди, не шуми, дикий ты человек! Какие все пошли буйные! Разве могу я оставить своих ребят в таком опасном деле? Да и вы тоже хороши! Чего бы вы без меня стали делать? Каким местом думали?
Партизаны расхохотались. Керавнос смягчился:
— А ты знаешь, как нам здесь достанется?
— Знаю! Не маленький! Через все я, милый друг, прошел — лет сорок у руля стоял и вновь скатился в юнги!
Бойцы подвинулись, освободили место у огня.
— Садись, Космас! — подтолкнул его Керавнос. — Грейся, сколько влезет, копи тепло про запас. Партизанская жизнь для тебя только начинается.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
А я, Олимп, седой Олимп, остался
непокорным,
И сорок две вершины я вздымаю
к небу гордо.
И шестьдесят источников с вершин
моих струятся,
А где источник, там и стан,
Там знамя капитана{[78]}.
Старинная народная песня
I
Сгоревшие дома похожи на огромные черепа. Огонь пожирает их содержимое, и остаются черные стены с зияющими провалами окон. Они мрачно смотрят на тебя, как пустые глазницы.
Видеть мертвые дома порой тяжелее, чем трупы. Невольно думаешь, сколько жизней прошло в этих стенах. Вереница лиц и событий, растянувшаяся на долгие годы, вся история дома встает за языками бушующего пламени, которое подводит ей итог. И бедняки, вдруг оказавшиеся без крова, бессильно глядят, как гибнет их имущество, род, память их рода. Разутые и раздетые, они стынут на снегу, и впереди у них холодная, как снег, неизвестность.
…Внизу, напротив Астраса, уже второй день горит деревенька Шукры-Бали. На заснеженных склонах медленно движутся серые точки. Это крестьяне, те, что успели спастись. Отсюда, с вершины Астраса, они похожи на муравьев. Какое-то свирепое животное растоптало их жилище, они снуют туда-сюда и ничего не могут найти.
Космас видит, как за густой черной тучей дыма багряными парусами полыхает огонь. Круглые стекла бинокля доносят его палящий жар. Передавая ему бинокль, Фигаро признался, что в голове у него созрел замечательный план.
Такой план есть уже у каждого партизана. Если партизан не чувствует себя хоть чуточку стратегом, какой же он тогда партизан? Рано утром они увидели в бинокль отряд цольясов. Тощей гусеницей он полз по направлению к реке. Тут же и родился первый план. Боец, обнаруживший цольясов, сказал, что знает дорогу, по которой можно зайти к ним в тыл. Градом посыпались предложения. Одни советовали идти цольясам наперерез. Другие считали, что днем двигаться не следует, зато ночью нужно сделать бросок и устроить засаду на пути от Шукры-Бали в Криакуро… Последнее слово было за Керавносом, но он не желал никого слушать. Космас не верил своим глазам: как чувство ответственности меняет людей! Только что, глядя на горящую деревню, Керавнос метался, словно лев в клетке, и скрежетал зубами, а теперь, точно умудренный годами хитрый клефт{[79]}, невозмутимо удерживал бойцов:
— Нельзя! Не время!
Бойцы огорчились. Расстроился и Космас. Хладнокровный Керавнос отверг и его план. Это неожиданное хладнокровие возмутило Космаса. Он обхватил Керавноса за плечи и крепко встряхнул его:
— Очнись ты, наконец! Если не пойдешь, мы пойдем одни!
— Да погоди ты, антихрист! — попробовал вырваться Керавнос. — Откуда только в тебе сила взялась?
Комиссар взвода Нестор, молчаливый, уравновешенный парень, рабочий из Волоса, наблюдал за ними, прислонившись к скале.
— Вот и Космас стал настоящим партизаном! Что скажешь, Керавнос?
— Ты думаешь? — Керавнос скептически оглядел Космаса. Однако освободиться из крепких объятий ему не удавалось.
— И не пытайся, Керавнос, где тебе против меня?
Керавнос вспыхнул, как порох, и расцепил руки Космаса.
— А ну, давай померяемся! Снимай револьвер! — крикнул он Космасу и сбросил на снег свой автомат. — Задумал комар отведать стали, да зубы обломал.
Они встали друг против друга, раздвинув ноги, точно вросли в камень.
— Не здесь! Не здесь! — помешали им партизаны. — С ума сошли! Убьетесь тут на камнях… Погодите, мы найдем место…
— Нет, здесь! — заупрямился Керавнос.
— Где хочешь! — не уступал ему Космас.
Однако Нестор встал между ними и послал партизан найти подходящее место. Керавнос не терял времени даром. Как опытный боец, он проводил разведку перед боем: ощупывал плечи, талию, шею Космаса, проверял его мускулатуру. Космас не мешал ему. По одному только прикосновению железных пальцев Керавноса он угадывал в нем огромную силу — силой его не одолеешь! Надеяться можно только на ловкость и на приемы вольной борьбы, которой Космас когда-то занимался.
Подходящее место нашли. Бойцы встали в круг, Космас и Керавнос оказались посередине. Не медля ни секунды, Керавнос бросился к Космасу, схватил его за пояс и легко поднял в воздух. Да, силы в нем было даже больше, чем рассчитывал Космас, но неловкости тоже хоть отбавляй! Он вертел Космаса, давил и мял его и не знал, что делать дальше. Космас внезапно рванулся. Керавнос потерял равновесие, его колена дрогнули. Еще один рывок — и Космас твердо стоял на земле. Не давая Керавносу опомниться, он навалился на него, и оба упали. Цепким клубком они прокатились несколько метров, вскочили и снова оказались друг против друга. Тяжело дыша, они готовились к новой атаке. Каждый уже оценил преимущества другого.
Как и в первый раз, первым кинулся Керавнос. Он снова рассчитывал поднять Космаса в воздух, но Космас отпрыгнул в сторону, Керавнос оступился и упал.
— Хватай его! Хватай! — кричали Космасу партизаны.
Случай и вправду был очень выгодный, но Космас хотел честной и красивой победы.
Керавнос встал и повернулся к нему, красный, разъяренный. Он чувствовал, что с таким хитрым противником, как Космас, нужна ответная хитрость. Однако уловки Керавноса были наивны. Он сделал вид, что снова нападает, шагнул вперед.
— Ну, Космас, давай, давай! — И отскочил назад, Космас притворился, что попался на удочку, но бросился не в объятья Керавноса, а проскочил мимо, сбоку обхватил Керавноса за шею и крепко зажал ее другой рукой. Керавнос взревел. Космас пригнул его голову вниз, прижался грудью к его плечам и спине и резким рывком взметнул вверх его тяжелое, сильное тело. Ноги Керавноса судорожно забарахтались в воздухе. Космас рассчитывал прокрутить его на плече, а потом опрокинуть спиной на снег. Но Керавнос отчаянно и безудержно бился в его руках, его тело ходило ходуном, мощные мускулы напряглись в неимоверном усилии. «Вырвется!» — подумал Космас. Керавнос действительно вырвался и кубарем покатился по снегу. И на этот раз Космас дал ему подняться.
— Сдавайся, Керавнос!
— Что ты сказал? — Ослепленный обидой, Керавнос снова устремился вперед.
Космас чуть отступил, схватил Керавноса за вытянутую руку и рванул его на себя. Зажав руку Керавноса обеими руками, он плечом запрокинул назад его голову и, просунув ногу меж его ног, навалился на Керавноса и бросил его спиной на снег. Он надавил коленом ему на грудь и вдруг услышал над собой голос Фокоса:
— Раз… два… три…
Поединок кончился неожиданно и печально. Не успел старик досчитать до десяти, как Керавнос взметнулся и подмял под себя и Космаса, и Фокоса. Под громовой хохот партизан они втроем катались по снегу, а когда наконец расцепились, пострадавшим оказался Фокос. Из губы у него сочилась кровь. Один из немногих зубов был выбит.
— Ну чего ты полез в самую драку? — спросил его Космас.
— Чего полез? А кто здесь, кроме меня, знает правила? — Фокос снегом вытирал кровь с лица и бороды. — А здорово ты его уложил…
— Откуда у тебя столько силы взялось? — недоумевал Керавнос.
— Одной силы мало, нужно и техникой владеть. С твоей-то силой, Керавнос, если подучиться, можно стать чемпионом Европы!
— Так научи же!
— Ладно! Ты научишь меня стрельбе, а я сделаю из тебя чемпиона. По рукам?
* * *
Двое партизан из взвода Керавноса были родом из Скинтейка — маленькой деревушки, расположенной в ущелье. Они лучше всех остальных знали окрестности и уговаривали Керавноса спуститься в ложбину: там можно укрыться в лесной чаще, там легче раздобыть продовольствие. Особенно настаивал Панурьяс — в деревне его ждала невеста. Но не только любовь влекла его в те края. Панурьяс был опытным и смелым партизаном, и он считал, что в ущелье их взвод сможет действовать более свободно и успешно.
— Да, да, — поддакивал его земляк Фантакас, гигант, по сравнению с которым Керавнос казался мальчиком. — Я знаю там такие тропы…
— А коли знаешь, чего ж ты тогда попался? — поддразнивали его партизаны.
Так Космас узнал, как Фантакас однажды воскрес из мертвых.
Прошлой весной по доносу посыльного из управы в Шукры-Бали Фантакаса схватили немцы. Его отвезли в Астипалею и на закате вместе с десятью эласитами расстреляли за городом в поле. Пуля разорвал а ему ухо, голову залила кровь; Фантакас решил, что пришел конец. Закопать могилу как следует немцы не успели — неподалеку в предгорье шел бой с партизанами. Едва покрыв трупы землей, немцы ушли. Когда стемнело, Фантакас выполз, взвалил на плечи стонавшего соседа и двинулся в путь. Утром он был у партизан. Ухо его, разорванное на три части, кровоточило и еле держалось.
— А ну-ка, расскажи, не таись, — донимал Фантакаса Фокос, — хорошо тебе лежалось в могиле? Кого ты видел в царстве Аида? Правда, что там есть горгоны?
— Смейся, смейся! — добродушно отмахивался Фантакас. — Вот попадешься, узнаешь тогда, почем фунт лиха.
— Не попадусь! Я в этих местах человек неизвестный. Другое дело — на море, там меня каждая килька за версту отличит. А тебя, Фантакас, здесь знают как облупленного! Да и ухо у тебя меченое! Смотри опасайся.
— Ты обо мне не тужи! Мне здесь каждый куст за родного почитает, укроет, если что…
— А землячок твой выдаст…
— Какой землячок?
— Да посыльный, что тебя предал… Говорят, опять вернулся с фашистами.
Предатель-посыльный действительно вернулся. Еще до того, как дивизия отступила, командование получило сведения, что за немцами движется соединение цольясов и одним из отрядов командует этот самый посыльный из деревни Шукры-Бали.
Доброе, открытое лицо Фантакаса стало злым и замкнутым.
— Знаешь, зачем он вернулся? — спросил он Фокоса.
— Зачем?
— Гроб свой забыл, — жестко отрезал Фантакас. — За ним и притащился.
II
Астрас не сгорел. Позднее все были уверены, что деревню спасла горстка эласитов — бойцов Керавноса. На самом деле Керавнос и его бойцы и не рассчитывали, и не надеялись на это. Они поставили на деревне крест, и если она все-таки уцелела, то только благодаря счастливому случаю и искусству хитроумного сапера Пелопидаса.
В полдень, когда деревня Шукры-Бали уже догорела, по ту сторону реки партизаны заметили немцев. Они шли по тропинке, ведущей к Астрасу, и строчили из автоматов. Вскоре они исчезли из виду, — по-видимому, перешли речку и стали карабкаться в гору. Потом вдруг раздался страшный взрыв. Густой черный дым покрыл ущелье, за первым взрывом ухнул второй, третий…
Взрывы эти были делом рук Пелопидаса. Накануне отступления он явился в штаб и предложил заминировать подъем на Астрас. У саперов осталось несколько больших мин. «Гору подорвут!» — говорил Пелопидас.
«Гора нам еще пригодится», — улыбнулся штабной офицер. Он не очень-то верил в успех, но все же согласился и позволил Пелопидасу осуществить задуманное.
Едва стало смеркаться, комиссар взвода Нестор и Панурьяс спустились к реке. Весь берег был взрыт, Каменистый выступ, нависавший над тропинкой, оторвался и скатился вниз…
А ночью Керавнос с двумя партизанами перебрался на ту сторону реки и наведался в маленькую деревушку в часе ходьбы от Шукры-Бали. Крестьяне рассказали, что немцы понесли большие потери: одни подорвались на минах, других завалило землей. Откапывать пригнали пленных эласитов из Дымова. Когда откапывали, разорвалась еще одна мина. Двое эласитов были ранены. Одному оторвало обе ноги. Это был парень из соседней деревни. Он скончался по дороге домой. «Так или иначе, нас в тюрьме убили бы, — сказал он перед смертью женщинам, которые его несли. — Лучше уж помереть здесь. Когда увидите братьев-партизан, поцелуйте их. Скажите — дай бог им удачи!» Те немцы, что остались в живых, вернулись в Шукры-Бали и перед церковью повесили священника и всю его семью.
* * *
Утро было спокойное. В ущелье стояла тишина. Тихой и безлюдной казалась и деревня Астрас. Лишь изредка от дома к дому мелькали женские фигуры: ободренные тишиной крестьянки торопились забрать оставленные вещи. Они появлялись и исчезали, точно испуганные птицы.
Вдруг ударили пушки. Несколько снарядов угодило в деревню. Потом снова наступила тишина.
— Пристреливались! — сказала Лаократия. Она стояла рядом с Космасом и куталась в шинель. — Сейчас как пойдут…
Не успела она договорить, как на деревню обрушился сплошной, непрерывный огонь. Над домами взметнулись клубы дыма и пламени.
— Господи, помилуй! — пробормотал бледный от волнения Фокос. — Лучше бы уж сожгли они деревню, чем такое светопреставление.
Обстрел еще продолжался, когда из Шукры-Бали выступил большой отряд немцев. Зеленая масса медленно стекала от деревни к реке. Но на этот раз немцы не спустились к воде. Они пошли по берегу, вверх по течению.
— Хотят перейти возле Криакуро, — сказал Керавнос. — Пойдем, Космас, посмотрим с высотки, оттуда видно лучше…
Осторожно перебегая, то и дело припадая к камням, они выбрались на высотку, с которой виднелись и домишки Криакуро, и дорога вдоль берега. Колонна немцев двигалась неторопливо и уверенно.
— А почему их так много? — вдруг спросил Космас. — Зачем против такой деревушки, как Астрас, посылать столько солдат? Может, они вовсе и не к нам?
Колонна вошла в лес. Партизаны ждали, что она вот-вот снова покажется на дороге, ведущей к броду. Немцы не появлялись.
— Куда вы смотрите? — послышался ликующий голос Гермеса. — Да они же драпают!
Из леса наконец показалась голова колонны. Но не у реки, а немного выше. На дороге к перевалу.
— Ночью в той стороне была перестрелка. Там наверняка тоже остались наши.
* * *
В полдень сторожевой поднял тревогу. Внизу, возле домишек Криакуро, он заметил подозрительное движение. — Сперва я думал, что это крестьяне. А потом гляжу — нет… Целый час за ними слежу. Снуют по склону то туда, то сюда…
— Наверно, цольясы!
Никто не видел, как они перебирались через реку, но все решили, что больше некому — цольясы уже в Криакуро.
— Нужно проверить, — сказал Керавнос. — Если это цольясы, то ночью ударим!
В разведку Керавнос послал Космаса и велел ему взять с собой еще двух партизан. Космас выбрал Панурьяса и Лаократию. Четвертым к ним напросился Фигаро.
Они спускались ельником к оврагу. Впереди шла Лаократия. Легкая, неуловимая, в комбинезоне из светлого одеяла — как раз под цвет выгоревших волос, — она совсем терялась среди деревьев. Керавнос не ошибся, когда оставил Лаократию в своем взводе: по храбрости она не уступала мужчинам. Настоящее ее имя было Эленица, но теперь она и сама его забыла, как забывала порой, что она девушка, к тому же очень молоденькая. Лишь иногда, в спокойные часы привала, Лаократия вновь становилась девочкой. Она садилась в сторонке, развязывала свой мешок и с детским любопытством разглядывала фотографии, вырезанные из газет и журналов. С этих вырезок на нее смотрели генералы и офицеры союзных армий. Мурлыча песенку, Лаократия разглаживала фотографии на колене, а потом аккуратно складывала в мешок. Это занятие было для нее редкой и приятной забавой.
— Ох, какой альбом есть у меня дома! — говорил ей Фокос. — Вот приедем в Афины — обязательно тебе подарю!
— А какой это альбом?
— Большой! С разноцветными открытками со всего мира!
— И ты мне насовсем его отдашь? — частенько спрашивала Лаократия, опасаясь, что Фокос забудет свое обещание.
— Десять раз говорят ослу, а человеку и раза достаточно!
Только в эти минуты Лаократия снова становилась Эленицей, и ее товарищи вдруг замечали, что перед ними девушка. А потом они снова забывали об этом. Все, кроме Фигаро. Фигаро уже год; как был влюблен в Лаократию. «Смотрите, что я заметил! — рассказывал партизанам Фокос. — Фигаро говорит «да», когда думает, что Лаократия тоже скажет «да». А она наперекор ему кричит «нет». — «Ну и что из этого?» — спрашивали ребята. «А то, что она тоже его любит, — отвечал Фокос. — И потом — почему бы ей не полюбить его? Чем плох парень? Души в ней не чает! А когда женщину обожают, она ни за что не устоит! Перед всем может устоять, а перед обожанием — никогда…» — «Ну ладно тебе! Хватит!» — прерывали разговор ребята. Они не позволяли Фокосу долго разглагольствовать о женщинах.
Старик был прав, Фигаро обожал Лаократию. Он следовал за ней всюду, молчаливый, внимательный, готовый помочь, защитить. Вот и теперь Космаса забавляло выражение крайнего беспокойства, которое появлялось на лице Фигаро каждый раз, когда Лаократия забегала вперед и скрывалась за деревьями.
— Стой! Не беги так быстро!
Чем больше он волновался, тем быстрее катилась по склону Лаократия.
— Хоть бы ты, что ли, ее остановил, — обернулся Фигаро к Космасу.
Они пробирались среди высоких елей. Вдруг Лаократия упала на землю и быстро поползла к большому камню. Космас дал знак, и партизаны тоже легли, прячась за стволы деревьев. Космас подполз к Лаократии.
— Там, в овраге, кто-то есть, — прошептала Лаократия. — Увидел меня и спрятался…
В овраге, поросшем густым кустарником, послышались треск сучьев и шум осыпавшихся под ногами человека камней. Мужчина в черном пальто вскочил и бросился наутек.
— Стой! — тихо окликнул его Космас. — Иди сюда! Человек оглянулся и замер под дулом направленного на него револьвера. Теперь Космас разглядел его. Это был совсем молодой парень. Бледный от страха, он медленно шагнул в их сторону.
— Партизаны! — вдруг закричал он что есть мочи. Лицо его ожило и засияло от радости и облегчения. — Вас-то мы и разыскиваем!
Из оврага и снизу, из леса, показались люди, они махали руками и кричали. Это были добровольцы из соседних деревень — с охотничьими ружьями и длинными ножами в деревянных ножнах. Высокие, широкоплечие деревенские парни, стройные, как сосны.
— Сколько вас? — спросил Космас.
— Двадцать два человека.
— А те, что в Криакуро, ваши?
— Нет. Но они тоже ищут ваш полк. Это эпониты{[80]} из Астипалеи.
— Какой полк? — не понял Космас.
Крестьяне из окрестных деревень не верили, что вся дивизия отступила. Ходили слухи, что на Астрасе остался партизанский полк. Впрочем, это были не просто слухи. Один из добровольцев, гимназист из Астипалеи, захватил с собой несколько номеров афинской газеты «Акрополь». Газета писала, что карательные экспедиции против партизан ведутся успешно. Целые области совершенно обезврежены, и «благонамеренные крестьяне вернулись к мирному труду». Дальше Космас вычитал и про их края: «Область Астипалеи уже свободна, за исключением отдаленной горы Астрас, где еще прячется разбойничий полк во главе с бандитом Керавносом. В ближайшее время эта шайка тоже будет истреблена».
Космас сказал новобранцам всю правду. Положение у партизан трудное. Никакого полка нет, нет ни оружия, ни продовольствия. Отчаиваться, конечно, не надо…
Молодежь и не думала отчаиваться.
— Мы не прятаться сюда пришли! Мы хотим воевать. А оружие мы отберем у немцев и цольясов.
— Вот видишь, — шепнул Космас на ухо подоспевшему Керавносу, — ляжешь спать взводным, а проснешься полковником!
— А я за этим не гонюсь! — добродушно улыбнулся Керавнос. — С меня хватит и взвода.
III
Скудное продовольствие кончилось. Съели черную фасоль — ее варили в пещере по ночам, — съели черствую, твердую, как камень, боботу, Сгрызли связку лука.
Кабы не головка лука,
Не житье было б, а мука! —
напевал Фокос, раздавая луковицы. Вдобавок к микроскопическим порциям он щедро сыпал прибаутками, И бойцы смеялись и над Фокосом, и над своим голодным пайком. Мешок Фокоса казался бездонным. Однажды вечером он, как волшебник, выудил из него банку мясных консервов — чудо в их убогом рационе. Фокос открыл банку ножом, разделил мясо на равные порции и раздал бойцам.
— Наелся, Фантакас?
— Опять ты смеешься!
— Нет, вы только посмотрите на него! Снова не наелся! Верно говорят: неблагодарный человек, как море, ненасытен!
В последнюю очередь Фокос извлек из мешка пакет с кукурузной мукой. Партизаны растопили снег и сварили кашу. Каждому досталось по нескольку ложек. Фокос выскреб котелок и лег, напевая:
Ни сыру, ни колбаски нет,
Съешь свою фигу на обед.
В мешке ничего больше не осталось, но Фантакас не хотел этому верить:
— Ну да! Не может быть!
Фокос с готовностью приподнялся.
— А чего бы тебе хотелось, Фантакас?
— Ну, хоть бы каши, что ли…
— Хотеть, конечно, хорошо, а иметь еще лучше, — улыбнулся Фокос. — Поищи сам.
Фантакас запустил руку в мешок.
— А ведь и вправду ничего нет!
— А ты пошарь, пошарь!
— Да я и так шарю! — Фантакас тряхнул в воздухе пустым мешком.
— Сам небось съел! — обвинил его Фокос.
— Да провалиться мне на этом месте! А что у тебя там было?
Фокос сел, скрестив ноги, и, раскачиваясь, пропел:
И булочка белая,
И дынька-то спелая,
И гусь, и творожок,
И пышный пирожок.
* * *
— А ну-ка, Космас, давай позовем Керавноса и пойдем потолкуем! — предложил Нестор.
Его на самом деле звали Нестором{[81]}, но это имя настолько подходило ему, что казалось удачно выбранным псевдонимом. Комиссар был самым знающим и самым опытным партизаном в их группе. Но Космас обратил на него внимание только теперь, когда оба они попали во взвод Керавноса. Теперь же Космас узнал и трагическую историю семьи Нестора: отец его умер в ссылке в Фолегандро, старшего брата расстреляли в Афинах, младший погиб в Фессалии, при столкновении партизан с немцами.
И Нестор, и Космас считали, что отряд должен остаться на Астрасе, нужно устроить новобранцев и подождать следующего пополнения. Крестьяне верят, что в горах остались партизаны, и обязательно будут их разыскивать.
— Вначале мы строили другие планы, — говорил Нестор, — но раз основные силы немцев ушли, нам нет никакого смысла покидать Астрас.
Убедить Керавноса было непросто. Ему хотелось командовать маленьким отрядом бойцов, отобранных им самим, хотелось совершать внезапные налеты и молниеносные рейды. Отстаивая свою идею, он тоже приводил веские доказательства. И самое веское — голод.
— Ведь с голоду помрем! Чем мы накормим такую прорву людей?
— Что-нибудь найдем! — успокаивал его Нестор. — Я предлагаю сейчас же, не теряя времени, спуститься в деревню, а ночью можно послать две-три группы в долину.
С последним предложением Керавнос согласился и сказал, что одну из групп поведет сам. Но спускаться в только что обстрелянный Астрас он считал опасным.
— Другого выхода нет, — настаивал Нестор. — Наши новобранцы забыли, когда в последний раз ели.
— Тогда подожди, пока стемнеет! А то не ровен час приметят…
— Мы будем осторожны…
Через полчаса, когда солнце начало клониться к горизонту, Нестор собрался в путь. Он захватил с собой Фокоса.
— Может, обождешь еще немного? — посоветовал Космас.
— Нужно попасть в деревню засветло, пока там будет кто-нибудь из крестьян. Без их ведома я не хочу брать ни крошки…
— Я тоже пойду с вами!
— Вот чего не нужно, того не нужно. Лишний шанс, что нас заметят, да и нужды в этом никакой нет.
Керавнос тоже не согласился отпустить Космаса. Сам он собирался пойти к новичкам в Криакуро, а Космасу и Панурьясу поручил вести наблюдение за окрестностями. Нестор с Фокосом и Керавнос вышли почти одновременно. Керавнос сразу исчез в лесу, а Нестора и Фокоса партизаны видели еще долго. Они шли по голому склону на большом расстоянии друг от друга. Впереди шагал Нестор. Он первым скрылся за лесистым пригорком, на голой вершине которого стояла деревенская церквушка.
…По расчетам партизан они были уже в деревне, когда со стороны Хелидони ударили пушки. Они опять били по Астрасу. На этот раз бойцы знали, что под обстрелом находятся их товарищи, и, наверно, поэтому огонь казался им еще более ожесточенным, чем раньше.
Услышав стрельбу, с полдороги вернулся Керавнос. Он появился неожиданно, бледный, потрясенный, и безвольно опустился на камень. С Нестором они дружили с первых дней партизанской войны.
— Да, может, ничего не случилось, — подбадривал его Космас. — Им не в первый раз… Спрятались, наверно…
Керавнос не слушал. Он обхватил голову руками и проклинал себя за неосмотрительность:
— Я виноват! Я! Это я его отпустил!..
— Керавнос! — тронул его за плечо Панурьяс. — Давай я проберусь, посмотрю, как там…
Керавнос не разрешил. А когда стемнело, вся группа двинулась к деревне. По дороге они встретили Фокоса. Его одежда и борода были в крови.
— Погиб! Погиб на моих глазах! — еле выговорил Фокос. — По неразумию своему погиб…
Когда ударили пушки, Нестор и Фокос упали в канаву. Вдруг из дома напротив выскочила женщина. «Мы перед этим постучались к ней, но она не открыла, — рассказывал Фокос. — А теперь выбежала, мечется, как полоумная, и не знает, что делать. Комиссар кричит ей, к нам зовет, а она как обезумела, ничего не слышит. «Да брось ты ее, говорю, пусть побегает, коль раньше не открыла». А он не послушал, вскочил, побежал за ней, а тут как ударят — и обоих на месте…»
— Ты говоришь, по неразумию, — с раздражением сказал Космас. — Если хочешь знать, Нестор был разумнее нас всех, вместе взятых, но кроме разума у него было еще и доброе сердце…
Однако его слова не доходили до Фокоса. Он был подавлен и едва стоял на ногах.
— Чего уж теперь кричать, — проговорил он. — Из-за глупой старухи такой герой погиб… Пошли, ребята, в деревню… Там снарядом несколько овец убило. Нужно забрать, а то их сожрут собаки!
IV
Еще не рассвело, когда в лагерь вернулся Гермес. Он принес тревожную весть — немцы и цольясы снова сосредоточились в Шукры-Бали и готовятся выступить против партизан.
Бой начался рано утром внезапной, стремительной атакой. С того места, где Космас и его товарищи установили пулемет, было видно, как цольясы гурьбой бросились в реку и натолкнулись на огонь партизан Фантакаса. Большинство цольясов вернулись обратно, и лишь немногие успели перебраться на берег Астраса, под прикрытие густых ив. Там по ним с фланга ударил Керавнос.
Потом потянулись долгие, томительные часы перестрелки.
Вторая атака состоялась под вечер. Солнце уже клонилось к горизонту, когда на Астрас обрушился сплошной поток огня. Космас заметил, что снаряды падали на разрушенный минами Пелопидаса переход. Его партизаны оставили открытым, они были уверены, что оттуда немцы и цольясы наступать не решатся.
— Вставайте! — отдал команду Космас. — Скорее к переходу! Они зайдут к нам в тыл…
…Пушки умолкли. Дымился развороченный снарядами обрыв. Первая группа солдат беспрепятственно перешла реку и стала карабкаться в гору.
— Не спеши! — придержал пулеметчика Космас.
Его нервы были напряжены, тело одеревенело. Рука крепко сжимала кольцо гранаты. Космас отполз в сторону, приподнялся. Рывок был хладнокровным и рассчитанным. Падая, Космас услышал взрыв своей гранаты, а потом крики товарищей и треск пулемета. С того берега ответили пулеметы цольясов. Пули, точно разъяренные пчелы, впивались в землю. Космас ползком вернулся к своим. В этот самый момент их пулемет неожиданно умолк.
— Ранили! — прошептал пулеметчик. Его рука бессильно повисла. На спине и на груди выступила кровь.
Космас разорвал на нем рубашку и перевязал рану. Внизу было тихо. Отступившие цольясы вылезли на противоположный берег.
— Чего ждешь? — крикнул Космас второму пулеметчику. — Наподдай им как следует!
— Ты лучше посмотри, сколько лент у нас осталось.
У партизан не было лент, а у цольясов — желания снова лезть в воду. И стреляли они в основном для того, чтобы прикрыть отступление своих.
Неожиданно снова ударили пушки. Правда, били они уже не по Астрасу. Снаряды разрывались на противоположном берегу, на дороге к перевалу. Вскоре оттуда же донеслась ружейная стрельба.
— В кого это они стреляют? — недоумевали партизаны. — Что там происходит?
* * *
Разгадку они узнали к вечеру, когда в лагере появилась вестница Керавноса Лаократия. Она принесла трофеи — сигареты, консервы и хлеб. Но еще радостнее, чем трофеи, была неожиданная новость: маленький отряд — человек сорок эласитов, — направляясь из Кидонохорья на Астрас, зашел в тыл цольясам и завершил бой. Командовал отрядом товарищ Лиас, секретарь областного комитета Астипалеи.
— Он сейчас в Криакуро, — сказала Лаократия Космасу, — хочет с тобой поговорить.
Космас однажды видел Лиаса в Астрасе и на всю жизнь запомнил его. Его нельзя было не запомнить, Лиас обладал редким по величине и по форме носом: посредине возвышался невероятно крутой горб, а на конце свисала мясистая, увесистая слива, продырявленная порами. Разговаривая с Лиасом, многие делали вид, что не замечают его уродливого носа. Сам же Лиас не раз посмеивался над злым даром, которым наделила его природа.
В Криакуро было многолюдно. По дороге спешили незнакомые партизаны. Почти все в рваной одежде и с окровавленными повязками.
Лаократия распахнула перед Космасом дверь одного из домиков. Он вошел и увидел Фантакаса и Керавноса в белой чалме бинтов.
— Вот и Космас! — поднялся ему навстречу Лиас. — Тебя и не узнать — ишь какую бороду отрастил!
Космас рассмеялся.
— Иди сюда, садись! Сейчас мы тебя накормим.
В домике было уютно и тепло, пахло чесноком и рыбными консервами. Банку консервов получил и Космас, В дверях появился Фокос.
— Где ж ты пропадал? — ехидно спросил Керавнос. — А мы-то думали, что ты погиб смертью храбрых!
— Пророки говорят, что человек, способный меня убить, родится только в будущем веке:
— Иди сюда! — позвал Фокоса Космас. — Иди. Угощу рыбкой…
— Какой рыбкой? Откуда?
Увидев консервную банку, Фокос скривился.
— Ты меня прости, но это не рыба. Такую пакость я в рот не беру!
Космас поднес банку к огню и прочитал этикетку:
— «Сардины»!
— Не может быть! Консервы немецкие, а море у немцев ой как бедно сардинами! Собрали небось какую-нибудь рыбью мелюзгу. А кто в рыбе не смыслит, тот, конечно, и верит… Дай бог, доберемся до Астипалеи, поймаю я для тебя большую рыбу и знаешь как приготовлю? Единственный способ в мировой кулинарии — половина рыбы будет вареная, а половина жареная…
— Ну и что же в этом удивительного? — спросил Лиас.
— А то, что рыба будет неразрезанная. Целехонькая будет рыба — половина жаренная с маслицем и лимоном, а половина вареная!
— Сочиняешь!
— Это я-то?
— Ладно, ладно. В Астипалее проверим. А для тебя, Космас, есть дело. Нужно устроить раненых, собрать трофеи. Давай-ка займись…
* * *
С делами было покончено на рассвете. В домике Лиаса все спали. Космас нашел свободное место и лег.
Яркие события минувшего дня одно за другим пробегали у него перед глазами. Но самой яркой почему-то оказалась удивительная рыба, обещанная Фокосом. Она то и дело наплывала на него, большая, золотистая. Рыба шевелила жабрами и резвилась в реке, у самого берега, где песок мягкий и желтый. И вода была чистая, как детская память…
Засыпая, Космас вдруг вспомнил, что вместе с последними днями января он оставлял позади двадцать лет жизни.
V
С отрядом Лиаса в лагерь прибыли трое интендантов: словно дождевые тучи над выжженной солнцем долиной, они сулили партизанам сытые дни. Один из интендантов оказался знакомым Космаса. Это был старик Колокотронис. И Космас мог биться об заклад, что следом за старым интендантом на горизонте появится фасоль или чечевица. Колокотронис тоже узнал Космаса, и они поздоровались, как давние друзья.
— Как дела, Колокотронис?
— Х…х…х…
— Хорошо?
— Нет! — выпалил Колокотронис. — Х…х…худо! Х…х…хуже некуда!
— Что так?
— М…М…мулов нету!
— На что тебе мулы? Возить-то все равно нечего!
— Есть ч…чего возить! — лукаво сощурился Колокотронис.
И он поведал Космасу, что в лесу около Кидонохорья спрятаны несметные сокровища. В тех местах находилось интендантство. Когда началось отступление, транспорта не хватало, и большую часть запасов спрятали в лесу.
— И что там припрятано? — поинтересовался Космас, Колокотронис стал перечислять:
— С…с…с…
— Сахар? — подсказал Космас, — Соль!
— А что еще?
— М…м…
— Мука?
— М…м…мыло!
Таким образом Космас узнал, что в тайном складе припрятаны картофель, макароны, табак, а также патроны, мины и гранаты.
— А еще что-нибудь есть?
Колокотронис кивнул головой.
— Фа…фа…фа…
— Фасоль или факес?
— Не…немного фа…фасоли и не…немного фа…факес! Нужно было срочно перевезти эти продукты и не менее срочно — раздобыть врача и лекарства. В бою многие партизаны получили ранения. Каждый врачевал себя как мог. Первым лекарством была раки деда Александриса. Партизаны промывали ею свои раны. На бинты рвали рубашки. По вечерам женщины стирали окровавленные лоскуты в реке. Утром лоскуты снова шли на перевязку.
Раненых решили разместить в Криакуро. Здесь было безопасно. Во время обстрелов из Хелидони снаряды до Криакуро не долетали. Почти все домишки превратились в больничные палаты. Заботу о раненых взяла на себя Кустандо, крестьянка из погоревшей деревни.
А как-то раз утром в Криакуро появился врач, растерянный и ошеломленный, словно краденая невеста. Хитростью и силой его доставил из Астипалеи Фантакас. Врачу было за шестьдесят, он устал от дороги и сердился на все и вся. И Лиас, и Космас постарались смягчить его гнев, но гораздо успешнее повлияли на врача сами раненые партизаны, которые нуждались в его помощи.
— Ну ладно, — сказал врач, — я остаюсь. Правда, и выхода у меня другого нет: что стоит моему дракону-похитителю снять с плеч эту седую голову? Но вы не думайте, не о голове своей я пекусь! Нет! Жаль покидать этих героев! Ради них и останусь! Однако имейте в виду: политикой я не занимаюсь и программы ваши не ставлю ни в грош…
Врач еще долго шумел, как будто старался убедить их, что старик он строптивый и своенравный: еще раскаетесь, что меня похитили. Космас слушал его с понимающей улыбкой: что и говорить, обошлись с врачом довольно бесцеремонно, и проглотить такую обиду нелегко.
Зато Лиас, привыкший судить обо всем только по тому, Что он видел, слышал и мог пощупать рукой, принял врача таким, каким он представился. Он сразу же заверил врача, что в его расхождениях с ЭАМ нет ничего страшного.
— Все греки, независимо от своих политических убеждений…
— Знаю, знаю, — ворчал врач. — Читал я кое-какие ваши книжонки. Зовете к сотрудничеству все партии и группировки… Но со мной, дражайший, дело обстоит иначе: я не вхожу ни в какую партию, я против политики.
— Ну и хорошо! — успокоил его Лиас. — Пусть будет так. Хотя все эти рассуждения об аполитичности теперь уже никого не проведут. В классовом обществе аполитичных людей не существует!
— Но я-то существую! — возмутился врач. — Может быть, вы и в этом сомневаетесь?
— Существуете, существуете! — согласился Лиас. — Но и вы так или иначе проводите политическую линию!
— Что значит так или иначе? Вот уже сколько лет я не состою ни в одной партии!
— Вот именно! Не примыкая к партии, самим фактом невмешательства и пассивности вы волей или неволей проводите определенную политику!
— Ну, это уже софистика! Это все равно что твердить: если ты не черный, то, значит, белый. А между тем есть и другие цвета. Есть, например, воздух. Какой он, воздух, черный или белый?
— Он аполитичный, — ответил Лиас. — Однако ночью он становится черным, а днем белым.
— Уф! — устало выдохнул врач. — Первый раз я беседовал с коммунистом лет тридцать назад. Он говорил то же самое, что и вы!
— Потому что ему вы говорили то же самое, что и мне… И потом — что за это время изменилось? Характер революции…
— Знаю, знаю… — Врач прервал беседу и пошел навестить раненых.
Несколько дней спустя из Астипалеи прислали человека с лекарствами и кое-какими инструментами для врача. Человек этот приехал на ослике. Он пробрался через деревни, занятые немцами и цольясами, выдавая себя за спекулянта. Отважившись на столь рискованное предприятие, он, конечно, не мог предположить, что самая большая опасность подстерегает его у цели, в партизанском лагере.
Космас сразу же заметил, как нахмурился Лиас, едва увидел этого человека. Партизаны благодарили его, жали руки, обнимали, а Лиас стоял в стороне и не сводил с него злого и подозрительного взгляда.
— Где-то я тебя видел, — сказал он, не подавая руки.
— Ты прав, мы вместе работали, на железной дороге.
— Вайяс, кажется, твое имя?
— Вайяс! У тебя хорошая память!
— Да! — сухо отрезал Лиас. — Память у меня хорошая.
Вайяс разгрузил своего ослика и пошел передохнуть. Ночью он собирался отправиться в обратный путь. А Лиас отвел в сторону Космаса и Керавноса и сказал, что этого человека нужно немедленно арестовать.
— Он предатель, его нужно судить…
— Кто? — разом переспросили Космас и Керавнос. — Что он сделал?
— Потом узнаете. Пошли, Керавнос, партизан, его надо арестовать!
— Это неправильно, товарищ Лиас, — тихо сказал Космас. — Человек жизнью рисковал, а мы его арестуем? Это несправедливо!
— Как так несправедливо?
— Мы не имеем права. Мы не можем дать партизанам такой приказ.
Возражения Космаса еще больше рассердили Лиаса. Он вспыхнул, как спичка.
— Ты сам пойдешь и арестуешь его! Я тебе приказываю.
Лиаса невозможно было узнать. Пожилой человек, старший товарищ, рассудительный и невозмутимо спокойный — таким знали его Космас и Керавнос. А теперь он весь дрожал и задыхался от ярости. Ярость плохой советчик, и Космас понимал, что в этот момент уступать Лиасу нельзя.
— Да что же он сделал?
— Он штрейкбрехер, он сорвал нам очень важную забастовку!
Воспоминание о сорванной забастовке распалило его еще сильнее. Лицо Лиаса побелело, и Космас уже раскаивался, что задал ему этот злополучный вопрос.
— Ну, ничего, успокойся. Все будет в порядке, — сказал он примирительно. — Вайяс теперь спит, время у нас еще есть. Торопиться некуда…
— Сорвал нам такую забастовку! — не унимался Лиас.
— Какую? — спросил Керавнос. — Когда?
— В двадцатом году. На железной дороге… Как сейчас помню…
Керавнос помолчал-помолчал, потом не выдержал и расхохотался.
— В двадцатом году! Да меня еще в живых тогда не было!
Засмеялся и Космас. Лиас посмотрел на них с упреком.
— Смеетесь? Отчего же теперь не посмеяться! Посмотрел бы я, как бы вы тогда посмеялись…
Он махнул рукой и зашагал прочь.
Потом у себя в шалаше они вернулись к этому разговору. Лиас был уже спокоен и по-прежнему рассудителен.
— Ты, конечно, правильно сделал, что не согласился, — сказал он Космасу. — У меня, знаешь ли, голова дошла кругом, когда я его увидел. Пусть себе едет на здоровье, только бы на глаза мне не попадался.
Однако после обеда он снова спросил о Вайясе, уехал он или нет.
— Ночью уедет.
— Пойдем, хочу с ним потолковать…
Вайяса они нашли возле костра.
— Как тебя занесло в Астипалею? Давно туда перебрался?
— Жена моя из Астипалеи. Когда начался голод, мы всей семьей переселились к ее родным.
— Дети у тебя есть?
— Трое. Сыновья.
Лиас чуть улыбнулся.
— Скажи-ка мне вот что, Вайяс. Ты теперь человек женатый, семейный, как же ты не побоялся сюда поехать?
Вайяс ответил не сразу.
— Это хорошо, что я тебя здесь встретил. Надо же, в конце концов, смыть то старое пятно. Как ты думаешь, смою?
— Смоешь, хорошими делами смоешь…
— Я тоже так думаю, — кивнул Вайяс, Прощаясь, Лиас протянул ему руку.
— Счастливо! Смотри не лезь очертя голову! Рисковать попусту не следует.
Когда они возвратились к себе в шалаш, Лиас взял Космаса за руку.
— Ты молодец! Так и нужно! Молодежь должна отстаивать свои взгляды. Мы, старики, как видишь, не без изъяна: у кого нервишки, у кого… А ты сегодня помешал недоброму, неправому делу. Вовремя остановил…
Вайяс ушел пешком. Вместе с лекарствами он оставил в лагере своего ослика. Колокотронис был счастлив. «Полк» приобрел еще одно вьючное животное. Первым был мул, на котором доставили врача.
* * *
Полк понемногу комплектовался.
Всего в отряде теперь было девяносто шесть бойцов. Их разделили на две роты. Командирами поставили двух учителей из группы Лиаса, офицеров запаса. Керавнос вернулся в свою стихию. Он собрал старых однополчан, переманил кого посмелее из новичков и организовал «особый» взвод. Едва у Космаса выдавалась свободная минутка, он бежал к своим товарищам.
Его тянуло к песням, к партизанскому, костру, а приходилось думать о продовольствии, о лекарствах для раненых. Как-то вечером Лиас завел обычный разговор о том, что бинтов опять не хватает, а для лошадей пора раздобыть солому, На окраине деревни пели партизаны.
Никогда еще нос Лиаса не казался Космасу таким чудовищным. «До чего же я невезучий! То англичане, то солома… Пошлю-ка я все это к черту. Пусть Лиас найдет себе кого-нибудь другого…»
Лиас замолчал и пристально посмотрел на Космаса.
— Сколько тебе лет, Космас?
— Двадцать. А что?
— Ничего. Сходи к Керавносу, отдохни. О соломе поговорим в другой раз.
Космас не заставил себя уговаривать. Он поспешил скрыться, словно ученик, сумевший до звонка выскочить из класса.
* * *
Партизанский патруль сторожил по ту сторону реки дорогу на Кидонохорья — оттуда все время прибывали добровольцы. Однажды часовые привели в лагерь Михалакиса, мальчика лет тринадцати-четырнадцати.
— Михалакиса я возьму к себе, — сказал врач. — Он мальчик смышленый, будет санитаром, а потом фельдшером, а там, глядишь, и меня заменит. Что скажешь, Михалакис?
— Хорошо, — тряхнул рыжеватым хохолком Михалакис.
Через несколько дней встревоженный врач снова заглянул в штаб.
— Что-то неладное творится с мальчиком. Целыми днями молчит, а по ночам плачет.
— Ну, а как это объясняет наука? — спросил Лиас.
— Какая там, к черту, наука! С парнишкой стряслась беда. Сегодня утром наш великий психолог Кустандо спросила его напрямик, — и врач передразнил грубоватый голос Кустандо: — «Что с тобой, Михалакис? Может, беда какая?» А Михалакис, конечно, промолчал. Если бы хотел сказать, сам бы все выложил.
— Нечего тут и голову ломать, — сказал Космас. — Все ясно как божий день. Парнишка пришел воевать, а мы его в госпиталь запрятали.
— Это ты по себе судишь, — усмехнулся Лиас. — Хотя давайте попробуем, пошлем его к Керавносу.
Так и не разгадали бы партизаны беду Михалакиса, если б он сам не рассказал обо всем Гермесу.
— Я плачу потому, что отец у меня в тюрьме.
— Эх, Михалакис, — серьезно ответил ему Гермес, — разве только твой отец в тюрьме? А у меня в тюрьме двое братьев! Не слыхал?
— Не слыхал, но я ведь потому плачу, что меня к вам послали. Не сам я сюда пришел.
— А кто тебя послал?
— Жандармы. Велели, чтоб пошел к вам, а потом вернулся. Если не вернусь, они отца убьют.
— Не реви. Пойдем к командирам, они что-нибудь придумают.
— А я не хочу туда возвращаться…
— Ну и не возвращайся!
— А если они отца убьют?
Вскоре разведка принесла дополнительные сведения: отца Михалакиса вместе с другими арестованными членами ЭАМ держали в деревне Аналипси, на днях их собирались перевести в Астипалею.
— Есть у меня одна идея, — предложил Лиас. — Пусть Михалакис вернется к себе в деревню, а что он там скажет, решим мы с вами. Установим через него связь с заключенными…
— Эпизод из приключенческого романа… — ввернул врач.
— Ну и что? Михалакис паренек сметливый, сделает все как надо.
Михалакис пришел в восторг от почетного поручения. Впервые за все эти дни он с аппетитом съел свою порцию каши и ночью перебрался на ту сторону реки.
Два дня партизаны провели в томительном ожидании. На второй день к вечеру они получили от Михалакиса первую весточку. Немецкие пушки начали бешеный обстрел голых скал Астраса. Они с завидной точностью били как раз туда, где, по сведениям Михалакиса, в тяжелых укреплениях были расположены батальоны и роты партизанского полка.
Обстрел повторялся каждый день. Под грохот пушек партизаны ласково вспоминали рыжеватый, выгоревший на солнце хохолок Михалакиса, его лукавые голубые глаза.
Бам! — грохотали пушки.
— Ишь ты! Дает жару наш Михалакис!
VI
Связь с внешним миром была восстановлена. Через широкую сеть своих людей Лиас нащупывал следы подпольных организаций ЭАМ в оккупированных городах и селах. Трудную и опасную работу связных взяли на себя старухи, худые и черные, как головни. Они появлялись и исчезали по ночам, неутомимые и удивительно выносливые.
Старухи приносили вести о зимних сражениях на фронтах союзников, названия русских городов, освобожденных Советской Армией. Это были трудные слова с неповоротливым хребтом, и партизаны путались в непривычных сочетаниях согласных: Витебск, Курск… В один прекрасный день они узнали, что в Западную Украину вступил Толбухин.
— А ведь говорят, что мать его гречанка! — сообщил врач.
— А как же иначе? — рассмеялся Лиас. — Мать спартанка и отец сибиряк! Разве он выдвинулся бы в маршалы без такой родословной!
Врач обиделся:
— Нет! Нет! Это правда, мать его греческого происхождения.
— Полно! Неужели вы верите этим басням?
Иронический тон Лиаса очень сердил врача, и Космас счел необходимым вмешаться:
— Ну и прекрасно. Если в Толбухине течет греческая кровь, он поторопится поскорее освободить Грецию. Что скажете, доктор?
— Это, милый мой, сложный вопрос. Такие вопросы чаще всего решают не генералы и даже не маршалы. Я вот что думаю: вряд ли англичане выпустят нас из своей сферы влияния…
— Позвольте мне перебить вас, — вмешался Лиас. — Сферы влияния — пройденный этап. Явление прошлого, немыслимое в современной обстановке. Руководители союзных держав высказались на этот счет определенно.
— Да, да, — махнул рукой врач. — Но история не начинается с сегодняшнего дня. И вы не убедите меня, если будете уверять, что Англия оставит нас в покое. Она не выпустит нас из своих когтей, она пойдет на все. Из века в век славится Англия как великая искусница ради собственной выгоды топить в крови целые страны…
Лиас слушал его с улыбкой.
— Вы, милый доктор, забываете о соотношении сил. Я дам вам одну книжицу…
Поглаживая рукой седые волосы и глубокие морщины на лбу, врач усмехнулся.
— Не кажется ли вам, дражайший, что для меня это уже поздновато?
* * *
С улицы доносились веселые голоса и смех. Партизаны читали газеты. Космас выскользнул из шалаша и натолкнулся на хохочущего Фантакаса.
— Иди, иди сюда! — крикнул он Космасу. — Ты только посмотри, что они про нас пишут!
Космас взял у него газету. Это снова был афинский «Акрополь». Газета писала, что последнее убежище партизан на отдаленной горе Астрас на днях стерто с лица земли. Столь же успешно проводятся карательные экспедиции в других областях Греции. Партизанской армии больше не существует. Только в северных областях еще действуют шайки коммунистических преступников, подкупленных Черчиллем.
— Да ты на фотографии взгляни!
Газета публиковала фотографии пленных и убитых бойцов разбитого партизанского полка на Астрасе. Партизаны были в лохмотьях, небритые и нечесаные. Под ироническим заголовком «Их вождь» фигурировала фотография мужчины с лицом кровопийцы и наркомана. Подпись внизу гласила: «Убитый главарь шайки Керавнос, выдававший себя за полковника».
* * *
Одна из старушек, связных Лиаса, принесла из Астипалеи пачку прокламаций. Она прятала их в потайном кармане под платьем. Космас развернул сверток, и перед ним, как маленькие отважные солдатики, выстроились буковки подпольной листовки. «Свобода», нелегальная газета, которую они выпускали в Афинах, печаталась таким же шрифтом. Вдыхая запах типографской краски, Космас подумал: а что, если и здесь, в горах, создать партизанскую газету?
Вечером Космас поделился своей идеей с Лиасом. Они стали прикидывать, что нужно для газеты, и тут перед ними выросла гора больших и малых трудностей, гора величиной с Астрас.
— Увы! Пока нереально! — развел руками Космас. — Подождем лучших дней.
— Считай, что я тебя не слыхал. Садись и пиши, что нужно в первую очередь.
— Радиоприемник!
— Пиши.
— Пишущая машинка, гектограф, бумага… Список получился длинный, но Лиас не отступал:
— Значит, так. Главным редактором, машинисткой и типографщицей будет у нас Элефтерия.
Элефтерия, еле живая от усталости, вернулась на Астрас два дня назад. Перед отступлением дивизии ее с секретным заданием направили в Астипалею. Дважды она попадала в руки шпиков и оба раза сумела их провести. Предложение Космаса и Лиаса привело ее в восторг и подействовало на нее лучше всяких лекарств.
— Ну вот и прекрасно, — сказал Лиас. — Немедленно собирайте материал для первого номера. И подумайте над названием для газеты!
Название подобрали не сразу. Лиас требовал, чтобы оно было многозначительным и отражало все стороны освободительного движения: «Национально-освободительный фронт», «За Грецию свободную, независимую, демократическую и…»
— Хватит, — остановил Космас. — «За Грецию свободную» — и больше ничего. А то получается не название, а итальянская макаронина.
Лиас погрозил пальцем.
— Ради красного словца ты способен пожертвовать существом дела…
Окончить он не успел — в шалаш вихрем влетел Керавнос.
— Придумал! Придумал название для нашей газеты!
— Какое?
— «Астрас»! — крикнул Керавнос, и вместе с этим звучным словом в комнату просочился запах сосен, а перед глазами возникли гордые и неприступные горные вершины.
— Молодец!
Все трое на радостях обняли Керавноса и усадили поближе к огню.
— Керавнос решил самую трудную проблему, — сказал Космас. — Я думаю, он будет постоянным корреспондентом нашей газеты.
— Кто? — растерянно вскочил Керавнос. — Да разве я на это гожусь? Тут нужен человек грамотный, опытный…
— Опыт придет, не бойся! — подбодрил его Лиас.
— Но у меня же взвод…
— Ну и что же? Никто не отнимает у тебя твоего взвода. В свободное время поможешь нашему редактору, будешь писать корреспонденции…
— Ладно, — кивнул Керавнос. — А кто будет редактором? Космас?
— Элефтерия!
Керавнос ничего не сказал. Он взял потухшую головню и начал перемешивать угли.
* * *
В первом номере решили напечатать «Декларацию о задачах Коммунистической партии Греции в настоящий период освободительной войны» и маленькую статью, поясняющую ее основные положения. Статью написал Лиас, озаглавил он ее очень щедро: «Манифест о целях движения. Смерть фашистскому чудовищу! Все силы на его уничтожение! Да здравствует свободная, независимая и демократическая Греция!»
— Зачем так много? — спросил Космас. — Почему бы не озаглавить статью коротко?
— Нельзя! — терпеливо пояснял Лиас. — Статья анализирует декларацию, и заголовок такой статьи должен отражать ее основные положения. Этот прием позволяет читателю усвоить композицию статьи и уловить ее суть. Поэтому я строю статью так: сначала общая характеристика, потом конкретные данные, а в конце политическое значение…
«Что же делать со статьей? — ломал голову Космас. — Неужели придется публиковать этот кирпич?»
Однако, видать, сам бог предназначил Керавносу роль ангела-хранителя «Астраса». Элефтерия уже садилась за машинку, когда принесли первую корреспонденцию — боевой репортаж Керавноса и Гермеса: «Шукры-Бали свободно! Тридцать цольясов и четыре немца захвачены в плен! Партизаны сражались геройски!»
— Молодцы! — воскликнул Лиас. — Статью мы, конечно, снимем и поместим репортаж. Какие молодцы! Что скажете?
— Молодцы! — горячо поддержал его Космас.
VII
Пленных держали в церкви. Крики и ругань разносились оттуда по всей деревне, но едва часовой открыл дверь, внутри воцарилась мертвая тишина. Пленные замерли в самых невероятных позах. Космас сразу заметил на их лицах синяки и кровоподтеки.
— Неужели вы их били? — спросил он командира роты.
— Сами себя разукрасили! С той минуты, как мы их заперли, только и делают, что дерутся и ругаются.
В дальнем углу раздался чей-то слабый стон.
— Раненый?
— Немец. Немцев они избили до полусмерти.
— За что?
— За то, что все они отпетые фашисты! — крикнул один из цольясов.
— А ты кто такой?
— Я не фашист!
— Ты хуже! — сказал Лиас. — Ты и фашист, и предатель.
— Предатель — это да! За предательство готов и кару принять. Но фашистом я никогда не был.
— Да хватит тебе, Папаяннопулос! — махнул рукой его сосед. — Все мы здесь фашисты! Нечего из себя богородицу строить…
— Зачем же ты бил немцев, если сам тоже фашист? — спросил его Космас.
— Я и не бил. Били вот эти дураки. Надеялись шкуру свою спасти!
— А ты не хочешь шкуру спасти?
— У меня совесть чиста, как мрамор!
Космас нагнулся, чтобы разглядеть его получше, и увидел рыжую бороду, мясистые, волосатые ноздри и узенькие щелочки глаз.
— Скольких ты застрелил на своем веку?
— Ни одного. Я револьвером не пользуюсь, предпочитаю нож. Да чего ты меня пытаешь? Спускай курок — и делу конец. А хочешь — сперва перережу своих сотоварищей? Если хочешь, дай нож. Будет сделано!
— Ну и сволочь! — сплюнул командир.
Все время, пока они были в церкви, Космас чувствовал на себе взгляд одного из пленных. Однако стоило Космасу посмотреть в его сторону, как тот поспешно опускал глаза.
— Поди-ка сюда!
Пленный встал.
— Посмотри на меня!
Он поднял голову. Космас вгляделся в его лицо и обхватил пленного за плечи.
— Как ты здесь оказался?
Пленный еще ниже опустил голову.
— Лучше бы ты меня не узнал.
* * *
Стелиос был юноша редких способностей и хорошо образован. Космас познакомился с ним в Афинах, в доме судьи Кацотакиса. Стелиос давал уроки французского — Джери и английского — Кити.
Семья Стелиоса считалась одной из самых богатых в греческой колонии Египта — крупнейшая торговая фирма. К восемнадцати годам Стелиос усвоил все, что могли ему дать колледжи и частные наставники, он в совершенстве владел пятью иностранными языками и даже писал на них стихи. 1 августа 1938 года он выпустил в Александрии первый сборник своих стихотворений. Предисловие к сборнику написал вождь футуризма Маринетти. С высокой оценкой творчества Стелиоса выступили шестьдесят шесть других поэтов и искусствоведов. Среди них был дядя Стелиоса. Как и прочие поэты, он высказался весьма туманно. Самое значительное достоинство Стелиоса заключалось, по его мнению, в том, что он был племянником великого дяди.
Когда разразилась греко-итальянская война, Стелиос решил оставить сочинительство до лучших времен и добровольцем пошел на фронт. Прощаясь с племянником на аэродроме, дядя Стелиоса сказал: «Куда тебя несет? Подумай хотя бы о том, что если и есть на свете горстка ценителей, которые понимают нашу поэзию, то они находятся в том лагере, с которым ты идешь воевать. Пропусти этот самолет и еще раз обдумай свой шаг. Если не передумаешь, улетишь следующим рейсом!» Однако Стелиос, уязвленный его словами «наша поэзия», ответил: «Нет, я не останусь ни на минуту. Сейчас мне не до поэзии. Нужно защищать родину!»
Когда война с Италией окончилась, Стелиос не захотел или не успел уехать в Египет. Голодную зиму 1942 года он перенес благодаря своему крепкому организму. Единственным подспорьем для него были уроки, которые он давал в богатых афинских семьях. Космас записал Стелиоса в студенческую столовую, и они не раз обедали вместе. Стелиос был очень приятным собеседником, но стоило ему заговорить о поэзии, как он становился совершенно невыносимым.
— Скажи-ка мне, — спросил его однажды Космас, — что ты думаешь об ЭАМ?
— О чем, о чем? — растерянно переспросил Стелиос.
— Я говорю о подпольной организации.
— Ах, да! Как же, как же! Слыхал! Но, говорят, они сотрудничают с коммунистами!
— Ну и что из того?
— Как что? С коммунистами я не хочу иметь ничего общего.
Потом Стелиос внезапно исчез. Он больше не приходил в, столовую и прекратил уроки в семье Кацотакиса.
* * *
— …Однажды утром на Омонии я встретил Зуракиса. Мы познакомились с ним на албанском фронте. И подружились. Он был самым образованным среди офицеров, к тому же я знал его родственников в Александрии — очень известная и богатая семья, влиятельная даже в Греции. Когда военные действия прекратились, Зуракис на своей машине привез меня в Афины.
Мы договорились бежать в Каир, но в последнюю минуту я передумал. Кстати, нам и не удалось больше встретиться. Через год я узнал от одного из знакомых, что Зуракис находится в Египте.
…Зуракис повел меня в гостиницу «Киферон». О своих планах и намерениях он не сказал ни слова, но я догадывался, что он приехал в Афины с секретным заданием, и эта тайна окружала его в моих глазах ореолом героя. Мы стали встречаться, и в один прекрасный день я тоже оказался обладателем соседнего с Зуракисом номера гостиницы. У Зуракиса было много денег, но я должен сказать, что жил он очень скромно, порой отказывал себе в самом необходимом. Все время и все силы он отдавал работе.
Что это была за работа? Я знал, что Зуракис часто встречается с министрами, дважды его принял премьер-министр Раллис. На прием к нему Зуракис приходил в форме офицера полиции, и сопровождал его один очень высокий полицейский чин. Знал я, что Зуракис поддерживает связь с английскими агентами, а в ноябре 1943 года в здании министерства путей сообщения он созвал совещание, в котором приняли участие два немецких офицера. Потом вдруг исчез. Он долго пропадал, и я уже начал беспокоиться, когда Зуракис появился снова, проклиная всех на свете — англичан, немцев и вождя ЭДЕС полковника Зерваса, к которому, как я узнал позднее, он ездил и с которым ни о чем не смог договориться.
Однажды вечером Зуракис пришел ко мне очень веселый и объявил, что проблема, над которой он все это время бился, наконец-то прояснилась. Положение спасут цольясы. Судьба немцев уже решена, освобождение — дело нескольких месяцев. Пора позаботиться о послеоккупационном периоде. Как избавиться от всех этих организаций Сопротивления — и в первую очередь от партизанской армии? Правительство, которое прибудет из Каира, нуждается в вооруженных силах. Пусть эти силы окажутся слабее партизан! Достаточно, чтобы они сумели инсценировать видимость гражданской войны, и тогда подоспеет помощь извне.
— Но почему, — спросил я его, — вы избрали для этой цели цольясов? Ты сам говорил, что это отбросы общества! Их считают предателями, их презирают и ненавидят…
— Как бы то ни было, роль свою они выполнить сумеют, — успокаивал меня Зуракис. — Ты видишь одни минусы, а ведь существуют и плюсы. Пока в Греции немцы, отряды цольясов в полной безопасности, а когда немцы отступят и бросят их на произвол судьбы, то им ничего не останется, как биться до последней капли крови. Биться на нашей стороне, потому что другого спасения для них не будет. Они могут надеяться только на столкновение с ЭАМ. Есть еще один плюс: отряды цольясов сосредоточены в городах. Если мы дадим им английское оружие, то укрепленные казармы цольясов будут для нас серьезной опорой.
Зуракис сказал, что перейдет на легальное положение. Он будет служить в частях цольясов адъютантом одного из высших командных чинов. «Этот выживший из ума старик, — говорил Зуракис, — готов продать душу дьяволу, только бы избежать грозящей ему виселицы».
Эту ночь мы провели с женщинами в маленькой таверне недалеко от гостиницы. Мы пили до бесчувствия. Для Зуракиса эта ночь была одной из немногих в его жизни, а для меня первой…
На другое утро мы надели военные мундиры: Зуракис — мундир майора, я — без знаков отличия. Я был теперь адъютантом и переводчиком Зуракиса.
Мы отправились в Пелопоннес. Останавливались в тех городах, где были отряды цольясов. Зуракис созывал совещания офицеров. Он стремился поднять их боевой дух, говорил, что части цольясов подчиняются теперь уже не немцам, а законному греческому правительству, поэтому об их роспуске не может быть и речи.
Надо тебе сказать, что наши путешествия были отнюдь не безопасными. Эамовцы следовали за нами по пятам. Судя по всему, весть о нашем приезде частенько опережала нас самих. Я помню, например, что в Астипалее сначала не было отряда цольясов, и Зуракис, приехав в Афины, немедленно отдал распоряжение, чтобы туда отправили крупное подразделение. Когда же на другой день мы проездом в Салоники остановились в Астипалее, Зурэкис показал мне свежий номер подпольной газеты ЭАМ. Вот что там было написано: «Согласно сведениям, полученным из Афин, цольясы намерены расквартироваться еще в нескольких провинциальных городах, Вполне возможно, что их выбор падет и на Астипалею.
Если цольясы почтут нас своим приездом, наш долг оказать достойный прием янычарам!»
Зуракис был взбешен. «Похоже, что один из нас двоих тайный агент ЭАМ, — сказал он, криво усмехнувшись. — Как они могли пронюхать о передвижении отрядов?» А я думал совсем о другом. Слово «янычары» меня буквально парализовало. И тогда я впервые задал себе вопрос: «А что мы все-таки делаем? Правы ли мы?» Я был расстроен, и Зуракис это заметил.
«Что с тобой?» — спросил он меня.
«Может быть, нас начинают преследовать эринии?{[82]}» — ответил я вопросом на вопрос.
«Не волнуйся, мы примем должные меры», — сказал Зуракис, и я понял, что мне никогда больше не попадет в руки подпольная газета.
В тот вечер на вокзале на нас совершили первое покушение. Я успел заметить двух парнишек, выскользнувших из переулка, и вдруг почувствовал сильный толчок. Зуракис повалил меня, и мы оба упали на землю. Над нами прогремели выстрелы. Мы не пострадали, только я больно ушибся об острый камень.
Астипалее суждено было сыграть роковую роль в моей жизни. Подумать только — маленький захолустный городишко, о существовании которого я раньше и не подозревал! Когда мы на обратном пути заехали в Астипалею, здесь уже были расквартированы отряды цольясов. Мне нездоровилось, и, по настоянию Зуракиса, я остался в гостинице. Мы поужинали у меня в номере. Зуракис составил мне компанию. В тот вечер у него было свидание с командиром местного отряда.
«Будь осторожен!» — сказал я ему на прощанье.
«Не бойся! У них рука дрогнет!» — улыбнулся Зуракис.
Но рука у них не дрогнула. Зуракиса застрелили почти на том самом месте, где прошлый раз совершили покушение. Его убили члены группы «Опла».
Мы похоронили Зуракиса в Астипалее. Я был страшно напуган и решил уехать. Лучше всего было бы собрать вещи и без промедления отправиться на вокзал. Но я не сделал этого. Не сделал потому, что у меня не было никаких документов. А путешествовать без документов я не рискнул. Несмотря на усилия Зуракиса, части цольясов все-таки распадались, скорый конец войны не сулил им добра. Я помнил, как в Салониках Зуракис приказал расстрелять перед строем четырех дезертиров. Я знал, что во всех городах, особенно на вокзалах, дежурят патрули, то и дело устраиваются облавы — тоже по распоряжению Зуракиса. Казалось, мой друг удерживал меня и после своей смерти. Я рассудил, что лучше всего вернуться в Афины законным образом, и направился к командиру подразделения. Вот отсюда все и началось.
Майор, мужчина лет шестидесяти, желтый, как лимон, с бурыми усами, с дрожащими руками и диким взглядом, — может быть, сейчас, в свете дальнейших событий, он представляется мне больше неприятным, чем был на самом деле, — пронзительно взглянул на меня и отрубил:
«Не выйдет! Никуда ты не поедешь! Удрать задумал, голубчик? А воевать кто за тебя будет?»
Меня поразил его тон и особенно его проницательность — ведь об отъезде я не успел сказать ему ни слова. Мне стало жутко. Я уже не мог владеть собой и еле-еле пролепетал ему, кто я такой и чего хочу. Но едва майор услышал о высшем командовании и о Зуракисе, его гнев удесятерился.
«Мне до этого нет никакого дела! — заорал он на меня. — Никуда ты не поедешь! Откуда ты родом?»
«Из Египта».
«Сколько миллионов у твоего отца?.. Много! Ну конечно! И ты хочешь, чтобы я их для тебя сберег? Нет, дружок, этот номер не пройдет! Поди сам повоюй с большевиками, из-за вас мы кровь свою льем! Что они могут с меня взять? Пару рваных порток?..»
Он выпалил с сотню крепких ругательств, а потом вызвал к себе капитана и передал меня с рук на руки. При этом он рекомендовал меня как заклятого врага большевиков, жаждущего испить их крови. Майор дружески похлопал меня по плечу и заверил, что желание мое непременно сбудется. Батальон, в котором я буду служить, на прекрасном счету. Все добровольцы люди с очень интересными биографиями. «Один к одному!» — поддакивал капитан.
Вскоре я оказался среди этих избранных. Мне вручили ружье и поставили в строй. Что бы я ни рассказал сейчас, ты не сможешь понять до конца весь ужас моего положения. Расскажу только об одном эпизоде. О том, как наш батальон захватил деревню Агиос Лукас. Тут поблизости, километрах в сорока от Астипалеи.
Я запомнил число-18 октября. В деревне был праздник, день святого Луки. Об этом сказал мне цольяс по прозвищу Горилла, когда мы ночью приблизились к деревне. Его недаром прозвали Гориллой — огромный, с ежиком жестких блестящих волос, с выдающимся вперед подбородком и толстыми, вывороченными губами.
«Ну что, философ, сожжем деревеньку?» — спросил Горилла.
«Зачем?»
«Все до единого эамовцы! Не деревня, а Москва номер два».
Я знал, как жгут деревни, и содрогнулся при одной мысли о предстоящем погроме.
«У них сегодня праздник, — потирал руки Горилла. — Нынче день святого Луки, и будет большая служба. Как видишь, философ, сам бог на нашей стороне».
Обычно, когда жгли деревню, операция проводилась вместе с немцами. Мы расположились на холме, над самой околицей, и ждали, — когда немцы пустят ракету. Деревенька спала сном праведника. Над домиками возвышалась каменная колокольня. Виднелись белые крыши. В неверном свете уходящей ночи поблескивали окна. Я закрыл глаза, и эта мирная деревня представилась мне такой, какой она будет через несколько часов. Я представил себе те дикие сцены, которые разыграются на этих улицах, в этих домах, и оглянулся на своих спутников. Ближе всех стоял Горилла. Он облизывался, как бульдог, и мне показалось, что на месте его удерживает натянутая цепь. С таким же нетерпением ждали сигнала и остальные.
Ослепительной искрой небо прорезала ракета, и цольясы, крича, улюлюкая и стреляя, устремились вниз, к деревне. Я не двигался с места.
«А ну, катись!» — услышал я над самым ухом голос своего взводного Нотиса.
Сильный удар обрушился на мою голову, и я кубарем покатился по склону. Снизу, из деревни, уже доносились беспорядочные выстрелы, крики людей, мычание и блеяние животных. Голова у меня кружилась. Падая, я уцепился за ветви кустарника. Я решил, что так и останусь лежать под его прикрытием.
Но меня скоро хватились.
«Куда девался этот ублюдок?»
На этот раз кричал сам капитан. Он был весьма изобретателен на прозвища. Я вскочил и бросился на его голос. Первый попавшийся на моей дороге цольяс наподдал мне, чтоб я бежал побыстрее.
«Пошевеливайся, скотина, а то капитан не помилует!..»
«Где ты отсиживался, черт тебя подери?!» — накинулся на меня капитан, воздерживаясь, однако, от рукоприкладства.
Когда я добежал до церкви, на моих глазах разыгралась страшная трагедия. Цольясы перебили всех крестьян.
Не знаю, обдумали они заранее это преступление или все произошло случайно. Крестьяне толпились на паперти, полураздетые — ведь их подняли с постелей, — напуганные и жалкие. Я думал, что их, как обычно, запрут в церкви, а когда от деревни останется пепелище, погонят в Астипалею.
Но тут на площади показались двое немцев, они вели старика. Было в этом старике что-то величественное, — высокий, статный, в белоснежной рубахе, он гордо шагал рядом со своими конвоирами. Он не боялся. Я испытывал и восхищение, и вместе с тем страх. Навстречу старику вышел наш взводный Нотис.
«С праздничком, товарищ Лука! — сказал он с издевкой. — Долгих тебе лет да крепкого здоровья!»
Старик остановился и гордо поднял голову.
«Тьфу, предатель!» — крикнул он Нотису.
Нотис схватился за автомат, но его опередил один из немцев. Этот выстрел прогремел сигналом к бойне. Немцы и цольясы стали поливать крестьян непрерывным огнем. Я бросился бежать. Что им стоило истратить одну пулю и на меня…
На окраине деревни я натолкнулся на двух цольясов, которые тащили за волосы сельского священника. У старика не было сил идти, и они волокли его по земле. Я знал этих ребят, они не отличались очень уж свирепым нравом.
«Отпустите старика! — отважился я попросить их. — Пощадите его годы, его сан!»
Священник прильнул к моим ногам и стал молить о пощаде.
«Убирайся, пока цел! — отпихнул меня один из парней. — Смотри, какой покровитель нашелся! А ну-ка, вдарь ему! Пусть не путается под ногами…»
До сих пор не могу понять: почему меня не убили? Я решил бежать, бежать во что бы то ни стало. Я готов был пойти на любой риск. Я ждал, когда мы вернемся в Астипалею… Но судьба решила иначе и освободила меня самым неожиданным образом…
Стелиос закончил свой рассказ и снова опустил голову. Только теперь Космас заметил, что волосы у него местами слиплись от крови.
— Тебя били?
— Да… немного…
— Партизаны?
— Нет, мои коллеги.
— Успокойся, теперь все будет в порядке. Я ведь не думаю, чтобы ты убивал старух и жег деревни? Что ты собираешься делать?
Стелиос немного помолчал.
— А что вы собираетесь сделать со мной?
Он улыбнулся, но в улыбке его таилась тревога.
* * *
Три дня в Шукры-Бали шел суд над цольясами. Шестерых, служивших с начала оккупации в немецкой разведке, инициаторов беспощадного разбоя и насилия, приговорили к смертной казни. Приговор немедленно привели в исполнение. Остальные цольясы были приговорены к различным срокам тюремного заключения — от пяти лет до пожизненного. Много споров на заседании трибунала вызвала история Стелиоса.
Председатель, командир второй роты, считал, что, несмотря на отсутствие состава преступления, Стелиос заслуживает пяти лет тюремного заключения: человек он грамотный, знал, что делал…
— В том-то вся и беда, — перебил председателя врач. — Излишняя грамотность порой и доводит до таких ошибок.
— А каково ваше мнение?
— Абсолютно невиновен.
— Как вы мотивируете свое решение?
— По причине умственной слабости! — вдруг предложил Керавнос.
— Минутку, минутку! — запротестовал врач. — Дело серьезное! Если бы мне предложили выбрать четвертование или оправдательный в силу моей якобы умственной слабости приговор, я не задумываясь остановился бы на первом. Разве похож этот человек на слабоумного?
— Хорошо! — кивнул председатель. — Ну, а если принять во внимание его образование и возраст, то какое оправдание мы можем найти для его поступков? Только умственную неполноценность. Керавнос, по-видимому, прав, это классический пример умственной слабости…
В перерыве Космас проконсультировался у адвоката из Кидонохорья, которого прислали вести следствие на этом процессе.
— Совсем не обязательно называть человека слабоумным, — сказал адвокат. — Напишите, что все это время мой клиент — о, простите! — подсудимый претерпевал моральное и физическое насилие!
Суд согласился с такой формулировкой.
VIII
Однажды вечером, под проливным дождем, в лагере снова появился Михалакис. Он промок до нитки, одежда прилипла к его худенькому телу, волосы стояли торчком, а лукавые глаза весело поблескивали. Мальчик удивительно напоминал мокрого, взъерошенного котенка. Смеялись, глядя на него, партизаны, смеялся и Михалакис, обнажая мелкие крепкие зубы.
— Иди, иди сюда, — протянул к нему руки Лиас. — Ждали мы тебя, ждали, даже поседели, ожидаючи. Сам пришел или опять прислали?
— Прислали!
— Жандармы?
— Ну да! Отец послал!
Михалакис принес записку от заключенных. Их содержали в церкви под очень слабой охраной. В деревне стояло два взвода цольясов и несколько жандармов, разбить их не составляло никакого труда. Правда, за деревней, на шоссе, немецкие посты. Заключенных было более ста — члены ЭАМ и молодежной организации. Сначала их держали всех вместе — мужчин и женщин. Несколько дней назад женщин перевели в Астипалею. Вскоре туда собирались переправить и мужчин. Заключенные просили партизан спасти их.
Выступили на следующий вечер. Космас зашел за Михалакисом. Мальчик спал.
— Вставай, Михалакис! Одевайся, да поживее!
Михалакис вскочил. Спросонья он ничего не понял и растерянно смотрел на Космаса. Но вдруг счастливая догадка осветила его лицо радостью.
— Уходим, да? Погоди, я сейчас!
На ощупь он отыскал в темноте бочку, плеснул в лицо пригоршню воды и вприпрыжку побежал за Космасом. По дороге он то и дело отставал. Подвязывал соскальзывающие с ног царухья и подтягивал штаны.
* * *
Космас прибежал к церкви одним из первых. Когда замки сбили, вместе с заключенными на улицу хлынула волна спертого, гнилого воздуха.
— Мы ждали вас сегодня! Мы еще утром узнали, что ваша дивизия совсем близко! — кричали заключенные.
Еще утром по всем окрестным деревням пронесся слух о том, что ночью границу области перешла дивизия ЭЛАС. Цольясы переполошились, целый день они звонили к себе в штаб, в Лукавицу, передали тревожную новость и запросили грузовики, чтобы перевезти заключенных. Грузовики им пообещали, но не прислали, а к вечеру позвонили и сказали, что слух о дивизии ЭЛАС не подтвердился. Цольясы встретили это известие как смертный приговор, они узнали, что передовые немецкие посты к вечеру снялись с места и передвинулись поглубже в тыл…
Командир первой роты отвел Космаса в сторону.
— Мне кажется, что мы не знаем каких-то важных событий. Сначала я не поверил этим слухам. Решил, что цольясы заметили вчера наше передвижение и со страху приняли нас за дивизию. Но сейчас я допросил пленных жандармов. Они говорят то же самое…
Из толпы заключенных к Космасу бросился Михалакис.
— Ну как, нашел отца?
— Нашел! Вот он я! — Высокий мужчина шагнул к Космасу, горячо обнял его. — Дайте нам оружие! Мы тоже пойдем воевать…
— Как тебя зовут?
— Парфениос Папахристу!
— А сколько человек, товарищ Парфениос, может вступить в наш отряд?
— Да все, кроме стариков и больных! Я знаю здешних крестьян, эти деревни входят в мой приход.
— Так ты священник?
— Митрополитом посвящен в сан дьякона, но, поскольку место священника в нашем приходе осиротело, служил вместо него, пока эти неверные меня не арестовали!
— Даже попа не пощадили!
— Благодарю господа бога, что не подвесили за бороду, как святого отца Лиаса из деревни Врисулес…
— Пойдем, отец Парфениос, поговорим с крестьянами…
Когда они подошли к дому, где раздавали оружие, дьякон придержал Космаса за руку.
— Сторожил нас тут один лейтенантишка, истинный зверь, но револьвер был у него прекрасный. Едва ли лейтенант его захватил. Он, говорят, удрал чуть ли не голышом! Если найдется, не откажите, дайте его мне!
Космас пообещал выполнить его просьбу. Револьвер действительно оказался в куче трофеев.
* * *
Маленькими группами партизаны расходились по окрестным деревням. В темноте Космас услышал голос Керавноса:
— Космас! Иди сюда! Давай попрощаемся!
— Смотри там, не зарывайся! Если бы немцы знали наши силы…
— Хорошо. Возьми-ка вот это и пошли в газету. Нашел кого выбрать в корреспонденты!
Космас улыбнулся. Однажды он заглянул к Элефтерии и застал ее над грудой полученных заметок. Элефтерия горевала, что не сможет втиснуть весь этот материал в маленький газетный листок. «А ты режь, сокращай, комбинируй, — посоветовал Космас. — На то ты и редактор!» — «Жалко сокращать! Ты только посмотри, какие хорошие заметки!» И Элефтерия протянула ему один листок. Космас сразу же узнал крупные, круглые, словно бобы, буквы Керавноса. Это был маленький скетч, очень веселый и задорный, с сочным диалогом и знакомыми образами Карагёзиса{[83]}. Подписывался Керавнос псевдонимом «Астерис». «Молодец! — изумился Космас. — Здорово написано!» — «Ты почитай остальные его заметки! — радовалась Элефтерия. — Всегда что-то новое, оригинальное!» Скетчи Керавноса стали появляться чуть ли не в каждом номере «Астраса», и партизаны ломали голову, кто же наконец этот Астерис. Редакция хранила тайну, и Керавнос был уверен, что псевдоним его не раскрыт.
— Обязательно пошлю! — пообещал Космас. — Утром отправлю со связным! Жаль, что в этом походе не участвовал Астерис! Вот он бы сочинил что-нибудь сногсшибательное!
— А тебе нравится, как пишет этот Астерис? — как бы невзначай спросил Керавнос.
— Еще бы! Очень хвалил его недавно наш редактор…
— А что она сказала?
— Сказала, что у него большие способности.
Керавнос отвернулся, чтобы не выдать свою радость.
Прощаясь, Космас крепко пожал ему руку.
— В добрый путь!
* * *
Первый раз за многие месяцы Космас прилег на кровать. Голова у него горела, мысли разлетались по ночным дорогам следом за рассеявшимися партизанскими группами. Радость победы казалась почему-то непрочной, она ускользала и уступала место сомнениям и беспокойству.
Ворочаясь на мягкой, удобной постели, Космас вдруг догадался, что и необоримая слабость, и жар не только от усталости и волнения. Чувствуя, что рука его деревенеет, он слегка потер ее — тонкие иголки вонзились в кожу, проникли глубоко, до самой кости. Пальцы нащупывали твердую, как камень, опухоль. Рубцы старой раны вздулись и горели. Космас зажег свечу и сбросил рубашку, он не снимал ее несколько недель. Фокос взглянул на его руку и испугался.
— Ничего, это не в первый раз, — успокоил его Космас. — Старая история…
— С чего это она у тебя опять вздулась?
— Застудил, наверно. Надо было пораньше перевязать. Вот если бы достать спирту да шерсти… Верное средство!
Фокос принес спирту, и они стали промывать рану.
— К врачу бы тебе…
— Ничего. И так пройдет…
Во дворе послышался шум. Космас наскоро забинтовал руку и выскочил на улицу. Партизаны, оставшиеся в деревне, столпились возле дома и прислушивались к глухому гулу, доносившемуся со всех сторон.
В окрестных деревнях били в колокола.
Рассвет едва занимался, холод пробирал до костей. Звон колоколов доносился с порывами ветра — то еле слышался, то звучал совсем рядом. Могучее эхо слетало с горных вершин и поднималось из мрачных глубин реки. Самым большим и мощным колоколом была темная ночь.
— А мы чего сидим сложа руки? — спросил Космас. — Разве в этой деревне нет колокольни?
— Сейчас я все устрою! — вызвался Фокос. Вместе с ним побежало еще несколько партизан. Вскоре и на церкви Агия Аналипси медными крыльями забили колокола.
IX
Астрас встречал сразу две весны: одна с обнаженным мечом шагала с гор, другая поднималась из долины. Мартовская непогода осталась позади, дожди шли все реже и реже, наступил ясный апрель. Суровые заснеженные горы, голые леса, сгоревшие деревни, бурые скалы, напоминавшие бог знает каких доисторических чудовищ, — весь этот холодный и недвижный мир вдруг ожил и переменился. Снега растаяли, ручьи ринулись к реке, склоны зазеленели, на полях распустились весенние цветы — море маленьких огоньков и звездочек.
День был прекрасный. После ночного врачевания боль в руке немного утихла, но опухоль не спадала. Наоборот, она еще больше затвердела, а краснота распространилась до локтя. Космас смотрел на свою руку с обидой и неудовольствием, как на капризного ребенка, которому не следует уступать: «Этот номер не пройдет. Я тебя одолею!»
То и дело прибывали связные — знакомые и незнакомые партизаны, гонцы из соседних деревень. Рассыпались по округе партизанские группы, и до самого вечера Космас так и не смог уяснить, кто где находится. Вести приходили радостные: цольясы в панике бежали, немецкие посты оставили шоссе и перебрались в Лукавицу. Керавнос шел за ними по пятам. С противоположного берега реки доносились редкие выстрелы, там, на лесистом склоне, действовала группа Фантакаса. Не отставал и отец Парфениос. О его передвижении по округе партизаны узнавали по колокольному звону. Дьякон объезжал свой приход и, начиная службу с «Христос воскресе», кончал ее здравицами в честь ЭАМ. Приходили и уходили запыхавшиеся связные, и, слушая их донесения, Космас порой совсем забывал о ране, притаившейся под спиртовым компрессом и слоем теплой овечьей шерсти.
А вечером связной с Астраса принес подтверждение слухов о дивизии — записку от командира и комиссара первого полка, от Вардйса и от Леона. Они писали, что утром в деревню Агия Аналипси прибудет партизанский батальон, которому поручена охрана этого района. Космаса они звали на Астрас. «Хочу увидеть тебя и пожать руку», — писал Вардис.
Кроме записки связной принес Космасу подарок от Леона — пачку сигарет, рубашку и новенькие, тщательно отутюженные брюки. Космас решил немедленно переодеться. Старые его брюки давно уже расползались по всем швам. Но только сейчас, когда к его ногам упала заскорузлая серовато-зеленая груда лохмотьев, Космас увидел, в каком они плачевном состоянии. Хорошо бы помыться! Уже одна мысль о теплой воде принесла ему облегчение, и Космас поверил, что хорошая баня пошла бы на пользу его руке. Почему теперь он так остро ощутил потребность в чистоте? Правда, о горячей воде и свежем белье он нередко мечтал и раньше, но мечта эта была нереальной, и прощаться с ней было легко. Ее место сразу занимали новые мысли и новые заботы — не только о себе, но и обо всех. Теперь эти заботы лягут на другие плечи, и можно будет уделить некоторое внимание своей персоне. Был бы в деревне Фокос, он устроил бы Космасу душ. Но старик еще утром отправился в соседнюю деревню за трофеями. «Ладно, — подумал Космас, — как только вернусь на Астрас, первым делом вымоюсь. Может, у них найдется и пара нижнего белья, а то мое белье давно уже срослось с телом!»
— У них даже парикмахер есть! — рассказывал связной. — Вчера он стриг нас, старожилов. Я теперь жалею, что сбрил бороду. Ты, комиссар, попроси, чтобы он тебе ее подстриг, но не сбривай. Тебе идет борода.
* * *
Ночью его разбудили. Космас увидел над собой неясную фигуру.
— Тут пришла партизанка, спрашивает тебя!
Космас вскочил, потный, разгоряченный, с неприятным ощущением горечи во рту. Едва он встал на ноги, как его зазнобило. Стиснув непослушные зубы, он шагнул на улицу. Студеный ветер захлестнул его горячее вялое тело.
Во дворе у костра Космас увидел Лаократию. Она присела погреться у огня и заснула. Никогда еще Космас не видел на ее лице этой мягкой и нежной улыбки. «Такой, наверно, увидел и полюбил ее Фигаро!» — вдруг подумал Космас, глядя на легкие тени от костра, скользившие по ее щекам. Золотые полукружья пушистых ресниц придавали ее лицу безмятежное выражение уснувшего младенца.
— Давно она пришла? — тихо спросил Космас, стараясь не разбудить Лаократию.
Но Лаократия услышала и встрепенулась.
— Скорей, комиссар!
В деревне Врисес окружено звено Керавноса, и патроны у них подходят к концу. Когда она выскользнула из деревни, все еще были живы. Но с тех пор прошло уже несколько часов…
— Пошли, ребята! — крикнул Космас.
Пока партизаны собирались, он присел у костра и протянул руки к огню. Озноб не унимался, плечо как будто еще больше отяжелело.
Командир посоветовал ему остаться.
— Из-за руки? Ничего, это пустяки! На счету каждый человек! Только бы не опоздать!
Проводником была Лаократия. Ее лицо снова стало строгим и замкнутым и ничем не напоминало нежную девушку у костра. А может быть, это была вовсе не она? Может, взбудораженное воображение Космаса за зыбкими бликами пламени искало другие образы и другие родные лица?
Они шли по гребню хребта. С Космаса лил пот. Ноги не хотели отрываться от земли. У мостика через горный поток он упал.
— Что с тобой? — встревожилась Лаократия.
— Пошли! Пошли!
«Куда пошли?» Из-под ног у него убегала земля, убегали горы, лица товарищей, убегали мысли, ускользала цель их ночного похода. Связь с миром терялась, и он повис в пустоте — один, объятый пламенем, беспомощный и жалкий. Он потянулся за исчезающими предметами. Чьи-то руки подхватили его под мышки.
— Ты болен! — говорили ему. Их голоса едва достигали его ушей, еле различимые, словно шелест листьев.
Горячая волна поднималась к голове, и голова падала на грудь, отягощенная бушующей кровью. Колени дрожали и подгибались… «Упаду! Упаду!» — думал Космас, но лоб и виски его вдруг похолодели и покрылись капельками пота, огонь в груди утих, а тело снова стало легким. И все вернулось на свои места — земля, товарищи, мысли. Космас снова ухватил нить, связывающую все воедино, и понял, наконец, что ему говорили.
— Ничего страшного! Пройдет! Не выспался, только и всего!
Рассвет они встретили в пути. Перед ними открывались мирные зеленые луга, лесистые холмы, один ниже другого, уже не скалистые и обрывистые, а пологие и округлые.
— Вот она, деревня!
Деревня горела. Дым, словно черное воспоминание, клубился над голубым сосновым бором — равнодушный след завершенного дела. Партизаны побежали вниз по откосу. Из кустарника навстречу им вышли, поддерживая друг друга, два партизана. Один из них был Фигаро, вернее, кто-то напоминавший Фигаро, — бледная маска в обрамлении окровавленной чалмы. Второго партизана Космас не узнал совсем.
— В деревне немцы!
Партизаны укрепили пулемет.
— Где Керавнос?
Фигаро пожал плечами и молча показал рукой на лес. Где-нибудь там теперь и Керавнос, и остальные. Живые или мертвые? Кто знает! Ночью, когда не осталось ни одного патрона, они решили пойти на прорыв. Кто-нибудь да спасется…
— Скорее, ребята! — командовал Космас. — Стрельните разок-другой, дайте им знать о нас.
Пулеметная очередь с сухим треском пронеслась над мягкими, лесистыми холмиками. В деревне сразу же откликнулись немецкие автоматы.
— Экономьте патроны! К вечеру подоспеет подкрепление.
Подкрепление, на которое рассчитывал Космас, подоспело еще до вечера. Это была рота из батальона, который Вардис послал в деревню Агия Аналипси. Привел роту сам командир батальона, лейтенант родом из Румели. Слегка сутулый, пропеченный солнцем до самых костей.
— За мной! — крикнул лейтенант.
* * *
Солнце клонилось к горизонту, спускались сумерки. Гигантские тени слетали с покрасневших от заката горных вершин, воздух стоял неподвижный, тяжелый, пахло дымом и кровью.
Во двор какого-то дома стекались партизаны, крестьяне, плачущие женщины.
— Что случилось? — крикнул Космас.
Навстречу ему бросилась Лаократия с красными, опухшими от слез глазами. Здесь, во дворе, лежит мертвый Керавнос. Космасу показалось, что он уже знал об этом. Он подошел поближе, партизаны расступились, и Космас увидел несколько трупов, покрытых шинелями. Лаократия подвела его еще ближе. Космас нагнулся и отвернул край шинели. Он увидел лицо, похожее и не похожее на Керавноса. Это лицо было белым, холодным, без выражения и без надежды.
Он снова вышел на улицу, со всех сторон на него надвигалась ночь, люди и дома тонули во мраке.
— Что с тобой?
Голос был тихий, ласковый, но рука, подхватившая его, железными тисками зажала рану. Казалось, железные пальцы прорвали кожу и вцепились в кость. Острая боль привела Космаса в чувство.
— Руку! Отпусти руку!
— Тебя тоже ранили?
Какие-то женщины и партизаны копошились у огня, пытались снять с его руки повязку. Повязка присохла к гнойной ране и не хотела отходить. Они смачивали ее теплой водой и потихоньку тянули. Было очень больно, но Космас терпел. Мучения его кончились разом: один из партизан наконец решился и сильно рванул повязку. Боль вонзилась глубоко-глубоко, словно насквозь проткнула его сердце.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Уж пушки в долине грохочут.
Партизанская песня
I
Апрель промчался незаметно. В палате партизанского госпиталя отсчитал Космас тридцать один день мая и половину июня.
Здесь он на своем опыте познал, что все в этой жизни основывается на привычках. И те, кого постигнет беда, рано или поздно привыкнут к ней — одни легче, другие труднее. Так было испокон веков. Здесь, в партизанском госпитале, беда переносится легче. Молодой организм быстро залечивает раны. Общий подвиг притупляет боль. И как только что пролитая кровь, свежа память о товарищах — память о погибших партизанах. К тому же здесь, в палате тяжелораненых, всегда найдется кто-то, кому совсем плохо, и все внимание и заботу раненые отдают ему. Рядом с Космасом лежит Гермес. Неделю назад миной ему оторвало обе ноги, и Космас тревожится за него гораздо больше, чем за себя. Раненые сбрасывают одеяла, показывают друг другу свои искалеченные тела. Они не стыдятся увечья, их увечья — почетная жертва.
Но с наступлением ночи смолкают разговоры. Кустандо гасит лампу, и каждый остается наедине со своими мыслями. Раны болят, чешутся и не дают заснуть. В этот час незатихающая боль подсказывает партизанам, что их дневные разговоры не исчерпывают всей истины, есть истина, о которой раненые умалчивают: они боятся назвать себя калеками. Но от этой горькой истины не скроешься, она будет сопутствовать им всю жизнь.
Много дней спустя после операции врач объяснил Космасу, что на искусственную руку ему надеяться нельзя. Операцию пришлось провести срочно и первобытными средствами. Гангрена угрожала его жизни. Ждать, пока прибудет дивизионный госпиталь, было невозможно. Рука отрезана, что называется, под корень. Культи для искусственной руки нет. «Но, — утешал Космаса врач, — от этих искусственных рук никто еще не видел толку».
Космас надеялся на свою здоровую руку. Он приучит ее выполнять двойную работу — быстро, споро, безукоризненно. И его организм забудет, что существовала вторая рука, он будет ориентироваться только на эту, единственную… Сначала он научился писать. Со всего госпиталя в палату приходили сестры, врачи и раненые, чтобы посмотреть, как красиво он пишет, как завязывает ботинки, как ловко заряжает пистолет. Они восхищались его умением, и Космас радовался их похвале.
Однажды утром в афинских газетах, которые прислал ему политрук дивизии Бубукис, Космас прочитал:
Сообщение
27 апреля 1944 г. шайка коммунистов устроила засаду в районе Молаи и злодейски убила немецкого генерала и трех сопровождающих его лиц. Многие немецкие солдаты ранены. В качестве ответной меры решено расстрелять: а) 200 коммунистов-заложников; б) всех мужчин, которых немецкие части встретят по дороге из Молаи в Спарту, за чертой населенных пунктов. Расстрел 200 коммунистов-заложников назначен на 1 мая.
Под впечатлением свершившегося злодеяния греческие добровольцы по своей инициативе убили 100 коммунистов.
Командующий немецкими войсками в Греции Симана
А через несколько дней «Астрас» — он стал теперь Дивизионной газетой — перепечатал корреспонденцию, взятую из афинской подпольной прессы. В корреспонденции говорилось о том, как немцы забрали из концлагеря Хайдари 200 заложников и как погибли эти герои утром первого мая в тире Кесарьяни. Газета называла их имена. Троих расстрелянных Космас знал, они были его земляками. Он помнил, где они жили, помнил их родных, и теперь газетные столбики имен раскрывались перед ним галереей знакомых лиц. Космас много раз перечитывал этот список, но только на другой день, случайно взглянув на газету, он выхватил еще одну фамилию, которая тоже показалась ему знакомой:
— Да это же Георгис!
Среди расстрелянных был дядюшка Георгис, владелец кафе на улице Академии. Его арестовали в один день с Космасом по доносу Сарантоса. Скромным и ненавязчивым был при жизни дядюшка Георгис, и так же скромно стояло в списке героев его имя; даже друзья не сразу узнавали его. Космас был потрясен и взволнован. Он не мог не сравнить трагическую судьбу Георгиса со своей судьбой. Они шли одной дорогой, их разлучили чисто случайные обстоятельства: у одного они отняли жизнь, а у другого только руку.
* * *
Одним из первых навестил Космаса Вардис. Он возвращался из штаба дивизии, который переместился теперь в деревню Кардари, и свернул с дороги, чтобы заглянуть в госпиталь — здесь лежало много партизан из его полка.
— Когда поправишься, пойдешь ко мне в полк комиссаром, — сказал Вардис Космасу. — Леона собираются перевести на другую работу…
Если бы он хотел просто подбодрить Космаса, то не нашел бы лучшего способа. Но Вардис думал не об утешении, а о деле. Он уже договорился о назначении в штабе дивизии.
— Они согласны. Так что когда врачи отпустят, милости прошу… Но смотри не торопи их! Они знают, что делают, а в таких вопросах поспешность неуместна.
Майор уехал, и началась война с врачом. Сначала нерешительная, потом все более яростная. Врач обиделся и заявил, что рана закроется не раньше, чем через три месяца, и обсуждать этот вопрос он больше не намерен. Потом он уже не вступал в перепалку — быстро делал перевязку и уходил, бормоча: «Конечно, конечно… Немного терпения… Теперь уже скоро…» — и Космас вспоминал вечную надпись на провинциальных бакалейных лавках: «Кредита сегодня нет. Будет завтра».
Май тянулся очень долго, он хитрил, заимствуя и по-своему используя мудрый опыт Пенелопы: по утрам он срывал с календаря листок, а ночью наклеивал его обратно. Отягощенный крупными событиями, май двигался, словно тихоходное судно.
В уединении и бездеятельности госпитальной жизни эти события воспринимались особенно остро. Партизаны рассматривали их точно под увеличительным стеклом. Они оживленно спорили, изучали мельчайшие детали.
В свободных горах было создано народное правительство — ПЕЕА{[84]}. Собрался Национальный конгресс. Полмесяца заседал он в деревне Корисхадес, в нем приняли участие выбранные на местах представители сел и городов. На этих выборах проголосовали полтора миллиона человек. Партизаны называли эту цифру с гордостью — вот какая большая стала теперь армия свободы. Скоро, очень скоро пробьет ее час…
Они не знали, что за морем, в Аравии, строились другие планы, другие созывались конгрессы.
II
Они узнали об этом из прокламаций, сброшенных английским самолетом: 20 мая закончил свою работу Национальный съезд. Он проходил в Ливане, туда съехались представители всех греческих партий и партизанских армий. В прокламации говорилось, что после долгого обсуждения участники съезда достигли соглашения… Они приняли национальную программу. Называлась эта программа Национальной хартией. Прокламации обещали, что на основе хартии в ближайшее время будет сформировано Всегреческое коалиционное правительство.
Через несколько дней в небе снова появился английский самолет и сбросил им коалиционное правительство.
Космас взглянул на прокламацию, и буквы запрыгали у него перед глазами: одним из первых в списке министров стоял Теодорос Марантис. Космас зажмурился и снова открыл глаза. Не ошибся ли он? Нет, не ошибся! Уверенно и незыблемо, словно в удобном министерском кресле, расположилась фамилия Марантиса напротив названия одного из крупнейших министерств. Незыблемое, словно прошлое! Космас прочитал весь список, и глаз его пообвык, как ухо привыкает к знакомому звуку, который раздался в неурочное время. В самом деле, на фоне других фамилий фамилия Марантиса ничем не выделялась, она была здесь на месте, как имя аллаха в Коране. Ведь речь шла о правительстве, о министерских портфелях! И Космас вспомнил, как говорил его отец: куда еще побежит вода, если не по арыку? Он вспомнил аристократический особняк на улице Илии и темных людей, промышлявших в тот голодный год маслом, инжиром, табаком, покупавших у немцев железнодорожные вагоны и загребавших золото на своих махинациях. Это были люди Марантиса.
Представители ЭАМ в правительство не вошли. В конце прокламации говорилось, что несколько министерств еще не распределены. Эта строка была набрана мелким шрифтом, как незначительное примечание, однако за ней стояла большая, очень существенная проблема. Получит правительство признание народа или будет держаться волей и оружием англичан? Партизаны поняли, что означает отсутствие в правительстве их представителей, и с нетерпением ждали, что же будет.
Палатка врача была переполнена. Врач только что вернулся из штаба дивизии. Он потрясал прокламацией с текстом хартии и убеждал партизан, что это троянский конь, сотворенный современными средствами.
— За каждой буквой я вижу здесь мошенника данайца, который прикрывается громкими и красивыми фразами. Но никакие пышные фразы не прикроют его, все так и выпирает. Будьте настороже и не попадите впросак, как ротозеи троянцы.
Спорил с врачом атлетического сложения раненый, очень похожий на Фантакаса. Он доказывал, что если даже за каждой буквой хартии будут прятаться не по одному, а по тысяче мошенников, все равно их песенка спета. Пусть только попробуют встать народу поперек дороги, от них останется мокрое место.
Врач с улыбкой окинул взглядом могучую фигуру партизана.
— Я в этом не сомневаюсь, я просто хочу, чтобы вы знали: злые духи еще существуют, и они строят козни. Не сводите с них глаз, иначе они снова сядут вам на шею…
— Народ не для того проливал свою кровь, чтобы опять терпеть у себя на шее этих пиявок. Нас больше не проведешь!
— Правильно! Но люди вы молодые, добрые, неискушенные, а они состарились на этих интригах.
— А коль состарились, то и помирать пора, — засмеялся партизан. — Туда им и дорога!
Врач с сомнением покачал головой.
— Ах, молодой человек, знали бы вы, как мне приятно слышать уверенность в вашем голосе! Но что вы сможете поделать, если великие мира сего, вершащие судьбы стран и народов, уже предрешили и нашу судьбу?
— Какие еще великие? Самые великие — это народы!
— Да, самые великие — это народы! Но есть немало сил, которые захотят воспротивиться вашей воле. Знаете ли вы об этом? Много ли ты учился грамоте?
— Мало. Но если сложить нас всех вместе, то будет много!
Переубедить врача было невозможно, это не удавалось даже Лиасу. Конец спору положила Кустандо, она пришла и заявила, что раненым пора идти по палатам, обед давно уже стынет. Космас подождал, пока все выйдут, и подошел к врачу.
— Ах, и ты здесь! Тем лучше! Я как раз к тебе собирался. Я хотел… — Он остановился, припоминая. — Да, да! Кто-то из штаба говорил мне о тебе…
— Прекрасно! Я знаю заранее! Меня вызывают в полк?
— Ты, разумеется, не угадал, но о чем же шла речь? И кто это был?.. Ах да, конечно, наш дорогой Лиас!
— Неужели? Как он поживает?
— Я, естественно, не стал спрашивать, как он поживает. Сам знаешь, здоровье у Лиаса отличное, что-то он мне сказал, но я толком не расслышал. Вроде того, что на днях тебя навестит одна из наших партизанских деятельниц. Имени лучше не спрашивай. Я давно уже перестал разбирать, где имя, а где кличка…
— Ну ладно, милый доктор, это не так уж важно…
— Погоди, погоди… Может быть, ты знаешь некую Янну? Кажется мне, что Лиас назвал ее Янной.
Космас остолбенел.
— Говорите, доктор, говорите…
— Да что с тобой?
— Что именно сказал вам Лиас?
Космас схватил врача за руку, тот еле-еле вырвался.
— Это же моя жена! Что вам сказал Лиас?
Врач сел на кровать и, морщась, потер руку.
— Ну, дорогой мой, теперь ты окончательно убедил меня в своем выздоровлении. Такой жим… Пора отправлять тебя на работу…
— Пора, давно пора! Так что же сказал Лиас?
Врач ничего больше не помнил, вернее, ничего больше не расслышал. Уже к вечеру Космас додумался позвонить Лиасу. Правда, по госпитальному телефону можно было услышать песни, барабанный бой, вой ветра, грохот взрывов, но только не членораздельную человеческую речь. Однако ночью, когда его наконец соединили со штабом, Космас кое-что разобрал. Человек по ту сторону провода называл себя Лиасом. Космас выуживал из телефонного шума драгоценные слова.
— Что-что? — спрашивал Лиас. — Янна приехала? Поздравляю, поздравляю!
— Я тебя спрашиваю: приехала она или нет?
— Спрашиваешь? Меня?.. Почему меня?.. Врач? Если бы ты бредил, это было бы понятно, но почему бредит врач?.. Да нет же! Ничего я не знаю!
Разбуженный врач смотрел на Космаса оторопело.
— Что? Какая Янна?.. Жена? Твоя жена?.. А ты кто такой?
Через час за чашечкой кофе они вместе уточняли:
— Лиас! Я уверен, что это был он!.. Говорит, что ничего не знает? Ммм… Значит, не он… Ну конечно, не он… Лиаса я давно уже не видел… Ты прав, это был не Он. Но кто же?
— Дорогой доктор, подумайте прежде, чем ответить. Вы уверены, что этот товарищ, пусть не Лиас, а другой, говорил вам о Янне? Имя вы хорошо запомнили?
— Имя редкое. Тут я абсолютно уверен!
После того, что произошло, уверения врача вряд ли могли успокоить Космаса. Но он гнал от себя сомнения. Возвращаясь в палату, он поймал себя на том, что улыбается. За дальними холмами поднималась дрожащая и яркая утренняя звезда.
III
Старшая сестра прибежала за Космасом.
— Иди скорей в палатку врача… К тебе приехали из штаба…
Космас вскочил и стал надевать китель.
— Знаю, знаю… Девушка, брюнетка, красивая…
Сестра засмеялась.
— Не она. Знаю я твою Янну…
В палатке врача Космаса ждал Леон — в красивой черной фуражке, в новом мундире, в рубашке из английского парашютного шелка, с аккуратно подстриженными усиками и бородкой. Они обнялись и трижды поцеловались.
— Приехал тебя поздравить. Врач, наверно, уже сказал…
— Так это был ты?
— Ну да! Наш начальник штаба видел ее в Генеральном штабе. Она приехала на Национальный конгресс. Выглядит хорошо, жива-здорова.
— И только?
— Приедет! Через несколько дней приедет. Она знает, что ты здесь, все знает… Ну, а как ты себя чувствуешь? Давай хоть присядем!
Врач куда-то вышел, и они были одни.
— Я специально не пошел в палату. Зайдешь в одну, значит, надо зайти и в остальные. Здесь много раненых из моего полка. А я проездом, и времени у меня в обрез. Вот повидаюсь с тобой — и сразу в путь… О беде твоей мне сообщили тогда сразу. Поскакал я к вам в деревню, но тебя уже увезли. Ну, а если бы и застал, что от меня толку в такой ситуации… Ладно! Что было, то сплыло! Оставим эту грустную тему! Закури и вспомни наши лучшие дни в Афинах.
Леон открыл белый портсигар с хорошими греческими сигаретами и протянул его Космасу.
— Мы еще кофейку выпьем! Знаешь, я так втянулся, жить не могу без кофе. Ординарец, наверное, уже приготовил.
Он подошел к двери и позвал связного. Молодой партизан, веселый, улыбчивый, поставил на стол алюминиевые стаканчики с кофе. На Леона он смотрел восторженно-влюбленным взглядом.
— Эти стаканчики я вожу с собой с первого дня походной жизни, — похвастался Леон.
— А прочие принадлежности? Кофе? Сахар?
— Кое-как перебивались, а теперь и подавно. Среди бела дня заглядываем в Лукавицу, а иногда и подальше. Немцы и цольясы носа не высовывают из казарм.
Космас испытывал приятное головокружение от аромата табака и кофе.
— Хорошо вам живется. Но чего же тогда медлить? Почему наведываетесь в Лукавицу, а не захватите ее насовсем? Сначала Лукавицу, а там, глядишь, и Астипалею!
Леон только пожал плечами.
— Ты ничего не знаешь… Друзья-англичане связали нас по рукам и ногам, шагу не дают ступить, не то что захватить Лукавицу. Силы у нас есть, а воли нету. Слыхал о плане «Ковчег»?
— Нет. Что еще за фрукт?
— Подробностей я не знаю. Военный план и хранится в тайне. Намечают серию крупных военных действий совместными усилиями партизанских и английских соединений. Приказали воздержаться от каких бы то ни было операций и пребывать в боевой готовности…
— Название-то какое символическое, — с улыбкой заметил Космас. — Похоже, что они решили запереть нас в этом ковчеге…
— Ты шутишь, а мы здорово с этим планом влипли. Англичане приковали нас к месту, а сами стягивают все новые и новые силы. Кто знает, против кого они их потом направят? Хитрый план…
— Зачем же мы терпим?
— А разве мы не союзники? Разве мы не подчиняемся союзному штабу? А тут еще и политический вопрос — подписываем соглашения… формируем правительство единства… Правда, число министерских портфелей, которые они готовы нам предоставить, ничтожно мало по сравнению с нашими силами… Не знаю, что тебе сказать. Кое-кто считает, что нужно до конца отстаивать ПЕЕА. Это, конечно, самое справедливое решение, но тут возникает целый ряд проблем, и не посчитаться с ними нельзя. А если посчитаться, то придешь к выводу, что решение, разумеется, справедливое, но повлечет за собой гражданскую войну и почти неизбежное столкновение с иностранными державами. Как видишь, дело тут далеко не простое…
— А что думает Спирос? Где он?
— Не знаю.
Но по тону его Космас догадался, что Леон что-то умалчивает, и недоверчиво улыбнулся. Леон тоже улыбнулся и добавил:
— Наверно, у него свои взгляды на такие вещи… Но ничего определенного я сказать не могу. В дивизии его сейчас нет… Однако мне пора. Если услышу о приезде Янны, то дам тебе знать.
Они снова обнялись и расцеловались. С ловкостью циркача Леон вскочил на нетерпеливую лошадь, она скосила сверкающий глаз, заржала и забила копытами. Две-три санитарки, оказавшиеся поблизости, восхищенно ахнули.
— Да, чуть не забыл! Привет тебе от переводчика из английской миссии.
— Какая еще миссия?
— А ты что, не слыхал? Ну как же! У нас теперь новая английская миссия. Обосновались они опять на Астрасе. На днях приезжали в штаб, переводчик заглянул в газету, спрашивал о тебе…
— Как его зовут?
— Стелиос.
За Стелиоса Космас был рад, зато появление англичан не предвещало ему ничего хорошего. «Надо будет нажать на врача и поскорее удрать к Вардису!»
Леон натянул поводья и, пришпорив лошадь, заставил ее встать на дыбы, чем снова вызвал испуг и восторг санитарок. Возле палатки связной укладывал в рюкзак вымытые алюминиевые стаканчики. Космас досадливо поморщился: «Черт бы побрал и шпоры его, и стаканчики!»
Леон пустил лошадь галопом.
* * *
Янна приехала вечером, неожиданно, без предупреждения. Время близилось к ужину, раненые лежали на бугорке напротив своего домика и читали газеты. Внезапно Космас заметил, что все смотрят вниз, под обрыв. На той стороне реки показался всадник. Он спустился к берегу и скрылся из виду. Ожидая, когда он появится на их стороне, партизаны спорили, мужчина это или женщина. Гермес, лежа на носилках, ожесточенно доказывал, что женщина.
— А как ты догадался?
— Спрашиваешь тоже! Думаешь, я не умею отличить мужчину от женщины?
— Умеешь! Но ведь отсюда не видно…
— Я волосы ее увидел.
Космас приподнялся.
— Ты серьезно?
Кто-то из партизан спросил:
— А бороды ты не видел?
— Если это женщина, нужно будет ей сказать, чтоб полюбила Гермеса, — он первый ее узнал.
Ответ Гермеса Космас услышал уже далеко позади:
— Разве так делают? Какая же это любовь? Надо, чтобы я на нее посмотрел и она на меня тоже…
* * *
Лицо Янны приближалось, неясное, расплывчатое. Сквозь радость на нем проглядывала печаль, сквозь печаль — усталость. Покрасневшие глаза улыбались. Космас помог ей сойти с коня. Ее пышные волосы нежной волной покрыли его, и Космас не сразу заметил санитарок и раненых, сбежавшихся посмотреть на интересное зрелище — на встречу молодых супругов после долгой разлуки. Любопытство их было откровенным, но не назойливым… Кустандо сочла необходимым разогнать ненужных свидетелей. Она принялась кричать, что раненым давно пора идти по палатам.
— Ладно, ладно! — услышал Космас голос Гермеса. — Разойдись, ребята! Нечего глазеть! А Космаса уж ты оставь, Кустандо! Он у нас теперь открыл второй фронт!
— Что это он говорит? — спросила Янна и покраснела.
— Это Гермес, — ответил Космас.
Он и не подозревал, что у Янны здесь так много знакомых. Почти все санитарки знали ее еще с прошлого года. Теперь они выбежали поздороваться.
— Пойдем! — сказала Янна. — Покажи мне, где ты живешь.
— Нет! Нет!
Космас не хотел вести Янну в свою палату и очень обрадовался, когда старшая сестра пригласила их в палатку врача. Однако трогательнее всех оказался врач. Он пришел познакомиться с Янной и, здороваясь, в изящном поклоне склонился к ее руке. Не просто было здесь, в горах, в это трудное время воскрешать на глазах молодежи привычки мирных дней — того и гляди попадешь под град насмешек. Однако искренность врача не оставляла никаких сомнений, и по улыбке, игравшей на губах Янны, Космас понял, что врач ей понравился.
— Я первым объявил ему о вашем приезде. Я узнал об этом в штабе дивизии, — сказал врач Янне и обернулся к Космасу: — Завтра утром я уезжаю, поэтому вам лучше всего поместиться у меня. Я буду в отлучке несколько дней…
— Нет, не беспокойтесь. Мы как-нибудь устроимся…
— Каким образом? Может быть, вы заказали номер в «Astras Pallas’e»? Если да, я не настаиваю!
* * *
Летняя ночь сияла за окном, чистая, только что вымытая легким дождиком. Сверкала подвешенная над Астрасом золотая подкова — символ счастья. Деревня спала. Горящие от лунного света вершины соседних холмов плавали в теплом море, и волны его врывались в открытое окно и падали на них. Космас чувствовал взгляд Янны, который притягивал его к себе. Без слов она сказала ему, что и теперь и всю жизнь будет с ним рядом… Никогда еще он не видел ее лицо таким счастливым, это безмерно дорогое лицо, которое когда-то волновало его детское воображение, потом будило мечты отрочества, а теперь стало лицом любимой женщины.
Он поцеловал ее в глаза. Они начинали новую жизнь. Их счастье будет надежным и могучим, как горы.
Янна погрузила пальцы в его волосы.
— Пока ты совсем не поправишься, я никуда не уеду.
IV
За несколько дней до отъезда Космаса из госпиталя над Астрасом снова появились самолеты. На этот раз они прилетели ночью. Прислушавшись к их гулу, раненые быстро определили, что самолеты английские. Оставалось еще определить, за чем они сюда пожаловали. Мнения разделились: списки нового правительства, парашютисты, боеприпасы, ботинки на правую ногу — десятки вариантов, и в пользу каждого из них партизаны приводили бесчисленные и неоспоримые аргументы. Истинную цель визита английских самолетов раненые узнали утром, когда санитарка чуть свет разбудила Космаса.
— Англичане пришли, чего-то говорят, а мы не понимаем.
Англичане — ефрейтор и солдат из английской миссии — выглядели усталыми и растерянными.
— В чем дело? — спросил Космас, обменявшись с ними приветствиями и рукопожатиями.
— Ночью нам сбросили несколько пакетов, и двух мы недосчитались. Сбились с ног, но так и не нашли. Пусть ваши партизаны поищут вместе с нами. Эти пакеты надо найти во что бы то ни стало.
— А что там такое?
Ефрейтор помедлил с ответом.
— Там взрывчатка, причем очень сильная. Предупредите партизан, пусть не прикасаются, если найдут.
— Что он там мелет? — возмутился один из раненых, афинянин. — Если взрывчатка не взорвалась при падении, то уж от наших пальчиков и подавно не взорвется!
— Хорошо, — сказал англичанину Космас, — мы сейчас соберем партизан.
— Космас! Послушай меня! — не умолкал афинянин. — Пусть он нас не дурачит. Провалиться мне на этом месте, если в этих пакетах не золотые!
Афинянин не ошибся. Через несколько минут в госпиталь пришел еще один англичанин — сержант. Его сопровождал Стелиос. И с радостью, и с грустью он обнял и поцеловал Космаса. Сержант проявлял крайнее нетерпение.
— Да что они, в конце концов, потеряли? — спросил у Стелиоса Космас.
— Недосчитались пакета с золотыми, — засмеялся Стелиос. — Смотрите не выдавайте меня…
— Нам они сказали о двух пакетах со взрывчаткой…
— Что они сочинили вам про взрывчатку, вполне понятно. Но зачем им понадобилось сочинять про второй пакет?
— А сколько золотых в этом пакете?
— Два мешочка, по сто пятьдесят в каждом. Не вздумайте отдавать, если найдете…
Врач пошел по палатам отбирать выздоравливающих, которые могли отправиться на поиски, и Стелиос с Космасом успели поговорить о своих делах.
— Живу по-королевски, — рассказывал Стелиос, — со всеми удобствами… Иногда мне кажется, что я не в горах, а у себя на каирской вилле. Недостает только бассейна… Заезжай как-нибудь… Хотя я слышал, что скоро ты переберешься к нам насовсем.
— Я? Зачем?
— Не знаю, Космас. Наш начальник, капитан Мил, справлялся о тебе в штабе, он хотел передать тебе какие-то поздравления. Из штаба ему сказали, что после выздоровления тебя пошлют к нам…
— Кто это сказал? Какие поздравления?
— Что-то в связи с полковником Стивенсом, которого ты спас в Афинах…
— А кто сказал, что меня пошлют на Астрас?
Этого Стелиос не знал. Между тем вернулся врач.
Он привел на подмогу англичанам двадцать партизан. Англичане посовещались и решили разделить их на три группы — по одной на каждого англичанина. Они боялись отпустить партизан одних, и сержант для пущей надежности требовал, чтобы с одной из групп пошел и Космас. Тот рассердился.
— У вас нет оснований не доверять партизанам, — строго сказал он сержанту. — Будь хоть золото в ваших пакетах, партизаны на него не позарятся, вернут в целости и сохранности.
Три дня и три ночи прочесывали партизаны склоны Астраса. Англичане потеряли всякую надежду получить свои золотые. Содержимое пакета ни для кого уже не составляло тайны.
Пакет с золотыми нашелся однажды под вечер, когда поиски прекратились. Его обнаружил молодой партизан из Эпира. Он дежурил на кухне и пошел в овраг наломать веток. Упаковка пакета повредилась при падении, и несколько золотых высыпалось на землю. Недостачу обнаружил Космас, когда пакет принесли в госпиталь.
— Надо найти все золотые до единого. Ты запомнил место?
— Конечно! Я там ветки ломал… Найду хоть с закрытыми глазами!
Высыпавшиеся золотые подобрали, и этой находке партизаны радовались больше, чем целому пакету.
* * *
Английская миссия занимала свой старый дом, но вдобавок к нему она получила еще две крестьянские избы, там жили солдаты и многочисленные слуги. Весь состав миссии был новым.
Капитан Мил, высокий, худощавый, с красноватым длинным лицом, расцвел в улыбке, когда Стелиос представил ему Космаса.
— Как хорошо, что вы приехали! Подполковник Стивене просил разыскать вас и передать сердечный привет! Имею честь объявить вам, что Генеральный штаб Среднего Востока отметил в своем приказе вашу заслугу перед английской армией и выразил вам благодарность за благородный поступок.
— Спасибо. Но разве любой грек не оказал бы помощь своему союзнику? Мало ли моих соотечественников отдали во имя этого свою жизнь? А где теперь подполковник? Не собирается ли снова к нам?
— Думаю, что соберется. Но не теперь, позднее… Чего же мы стоим? Присаживайтесь… Надо отметить такое событие!
— Как-нибудь в другой раз! Я приеду специально. Сегодня же меня послали с поручением. Я должен передать вам потерянный пакет.
Мил и Стелиос, пораженные, глядели на сверток.
— Будьте осторожны! — засмеялся Космас. — Опасно для жизни… Нам сказали, что там взрывчатка…
Мил взял сверток и увидел, что упаковка вскрыта.
— Она разорвалась при падении, — пояснил Космас, — но все золотые на месте. Прошу вас проверить и дать мне расписку.
— Да, да… — Мил присел и занялся подсчетом.
— Вы с ума сошли, — зашептал Космасу Стелиос. — Они уже списали эти золотые и тому, кто найдет, обещали дать половину. Раз уж вы сглупили и вернули им пакет, то возьмите хоть награду. Я могу подтвердить, что они обещали…
Мил подошел и заявил, что ни одного золотого не пропало.
— Тогда дайте мне расписку, что получили всю эту сумму сполна.
— С удовольствием. Стелиос составит нам такую расписку, а я подпишу. А пока скажите мне, пожалуйста, кто нашел этот пакет?
— Партизан.
— Он один его нашел? Он знал, что внутри золото?
— А как же! Он половину золотых подобрал с земли.
— Он знает цену золоту?
— Как и мы с вами…
— О! — засмеялся Мил. — Будь я на его месте, золото осталось бы у меня.
— Если бы вы были партизаном, то не оставили бы его у себя…
— Какая разница? Все равно оставил бы! Хотя я ни за что не стал бы партизаном ЭЛАС!
— Почему?
Мил со смехом пожал плечами.
Стелиос приготовил расписку, и Мил не глядя подписал ее.
— Возьмите еще вот это, — Мил вынул из пакета завернутый в бумагу столбик монет, — передайте партизану, который нашел сверток, или распорядитесь ими по-своему. Словом, делайте что хотите. Они ваши…
Космас придержал его руку.
— Нет, капитан, партизан, который нашел сверток, не примет этого подарка.
— Скажите ему, что он слишком горд, потом сам раскается, что не взял… Ну ладно, давайте подарим ему парашютного шелку. Хороший, настоящий шелк…
— Шелк ему тоже не нужен. Вот от оружия он не отказался бы.
Мил был непроницаем, как густой туман.
— Хорошо! Достоинство — похвальная черта. Передайте ему нашу благодарность.
В госпитале Космаса с нетерпением ждала Янна.
— Мы уезжаем! Звонили из штаба дивизии. Сегодня же вечером мы оба должны явиться…
V
И в штабе дивизии все было по-новому. Резиденция штаба — деревня Кардари — находилась не в диких, как Астрас, горах, а в тихой долине. Но изменились не только географические условия. В прошлом году Космас прибыл в дивизию в разгар операций: и начальник, и офицеры штаба сражались на передовой, комендантская рота то и дело снималась с места и уходила в бой, и, заглянув в Астрас, невозможно было догадаться, что там расположен командный пункт военного соединения. Теперь это чувствовалось сразу же и во всем.
Над железным балконом двухэтажного дома развевался греческий флаг. Там размещалось командование. Штабные отделы и прочие службы располагались в соседних домах. Тут были и склады интендантства, и кабинет просветработы, и редакция газеты «Астрас» — Космас с особой любовью разглядывал эту надпись, сделанную черными чернилами прямо на стене. Тут же помещались комитет областной организации ЭАМ, комитеты женской и молодежной организаций и народный кассационный суд.
По деревенским улочкам нескончаемой вереницей тянулись крестьяне с мулами и осликами, торопливо и деловито шагали партизаны; при встрече они отдавали честь, но не останавливались перекинуться словечком и, видимо, вовсе не знали друг друга. Выглядели они вполне цивилизованно — стриженые, выбритые, — в чистой, глаженой одежде. Кухня работала без перебоев, больным и выздоравливающим давали повышенный паек. Одним словом, времена черной фасоли остались далеко позади. Стояла нестерпимая жара, но партизаны комендантской роты, все до единого незнакомые Космасу, заливались песнями, словно кузнечики.
По направлению, которое получил в госпитале Космас, ему надлежало явиться в кабинет А 2. Там его встретил молодой лейтенант, одетый не хуже Леона, но пока еще не столь величественный.
— Взгляни-ка, пожалуйста, на эту бумагу, — сказал Космас, подчеркнув небрежно слово «бумага» и выразив тем самым свою неприязнь к новым, официальным порядкам в дивизии.
— Здравствуй! Здравствуй! — приветливо поздоровался лейтенант и протянул левую руку. — Мы тебя ждем. Пошли к дяде Мицосу.
Дядя Мицос оказался начальником штаба, это был кадровый офицер, полковник лет шестидесяти пяти, с пышной седой бородой и рыжими от табака усами. Его острые, умные глаза дружелюбно смотрели сквозь стекла очков, еле державшихся в старой алюминиевой оправе.
— А! Добро пожаловать! Как доехал? Как себя чувствуешь? Приказ читал?.. Не читал? Ну, с этого и начнем.
Лейтенант сбегал к себе и принес приказ — один из первых приказов военного министерства при ПЕЕА. В длинном списке фамилий Космас нашел свою. Ему присваивалось звание старшего лейтенанта.
— Поздравляю! — сказал полковник и крепко пожал ему руку. — Желаю новых успехов и повышений. Пока не получишь назначение, поработаешь у нас в штабе. Напишешь подробный отчет о деятельности вашего отряда на Астрасе. С первого дня, как отступила дивизия, и до самого конца. Назови тех, кто отличился, кого нужно отметить, наградить… Выскажи свои предложения. Вопросы есть?
— У меня только один вопрос… Могу я узнать о своем назначении?
— Когда будет приказ, сообщим.
— А могу я высказать свое желание?
Старик рассмеялся, и глаза его показались вдвое больше под толстыми стеклами очков.
— Знаем мы твое желание! Нам Вардис говорил, и мы совсем уже было решили. Но потом произошли кое-какие перемены… Ты пиши пока отчет, а там посмотрим… Нужно исполнить наш долг перед товарищами. Как следует исполнить… Договорились?
— Договорились! — Космас встал.
— Погоди! Мы отрядим тебе в писари одного солдата…
— Не нужно! Я сам напишу!
Полковник проводил его до двери.
— Сейчас же отведи его на склад! — крикнул он вдогонку лейтенанту. — Пусть оденется как следует! Еще лучше, чем ты!
На складе Космаса ждал приятный сюрприз — заведующим оказался Фокос.
— И как я тогда недосмотрел! — рвал на себе волосы Фокос. — Знал бы ты, сколько раз я потом бился лбом об стенку, проклинал свою дурную башку. Почему я в тот вечер не отвел тебя к врачу? Почему? Где наша, чуткость? Про человека, про человека забываем!.. Почему я в тот вечер не отправил тебя в госпиталь, когда все еще было поправимо?
— Ну ладно, Фокос, нечего после драки кулаками махать. Если признаешь за собой вину, то изволь искупить ее — найди мне форму получше.
— Да я сделаю из тебя картинку!
Разодетый, как картинка, Космас отправился обедать. Янна еле узнала его в новом великолепии. Но и она изменилась не меньше. Вместо военной формы Космас увидел на ней летнее платьице, которое помнил еще по Афинам.
— Что за превращение? Неужели новое путешествие?
— Путешествие. Но пока близкое — по району. С сегодняшнего дня я работаю в обкоме, а наш секретарь говорит, что женщины должны носить то, что им к лицу.
— Кто у вас секретарь?
— Вот он — собственной персоной.
Космас оглянулся и прямо над собой увидел потный от жары, красный, словно мак, нос Лиаса.
— Ну и ну! — хохотал Лиас. — Неужели ты сумел меня забыть? Я польщен!
* * *
Их поместили на окраине деревни. Космас сел писать отчет, а Янна убежала в свой обком и вернулась вечером. Она увидала на полу горы исписанной и изорванной бумаги.
— Я дам тебе один совет, — подсела она к Космасу. — Я помню, ты лучше всех в школе писал сочинения, но теперь этого мастерства не нужно. Пиши как можно сдержаннее, суше и, где можно, вместо слов ставь цифры. А теперь пошли ужинать.
— Не пойду, Янна, не могу. Я не заработал сегодня свой кусок хлеба. Накажу себя сам и посижу голодным.
Янна ушла одна и вскоре вернулась с котелком чая, ломтем хлеба и куском твердой, как камень, колбасы.
— Я еще яичницу тебе поджарю! — объявила Янна. — Это надбавка выздоравливающим.
Космас отложил бумаги в сторону и стал наблюдать за Янной в роли хозяйки. Впервые они садились ужинать по-семейному. Со свойственной ей ловкостью и быстротой Янна разожгла огонь и принесла со двора два камня.
— Вместо таганка, — объяснила она Космасу и установила камни на огне — один напротив другого.
— А что у нас будет вместо сковороды?
— Сковорода!
Янна снова выбежала во двор и тут же появилась с черной, закопченной сковородой.
— Соседка предлагала мне даже масло, но я отказалась.
— А на чем будешь жарить яичницу?
— На жире от колбасы. Возьми кувшин и сходи за водой. Когда вернешься, все будет готово. Помнишь, где родник?
Когда Космас пришел, на ветхом ящике, служившем ему письменным столом, стоял готовый ужин. Вместо скатерти — английские прокламации, а на них тарелка с яичницей и колбасой, хлеб и котелок с чаем.
— До чего аппетитно! Хорошо, что нет вилок! Будем есть руками, а потом облизывать пальчики!
— Вилка есть, — сказала Янна и села рядом.
Во дворе послышались торопливые шаги. Женский голос позвал Янну.
— Опоздала! — вскрикнула Янна. — У нас сейчас собрание. Я побежала.
— Съешь хоть что-нибудь…
— Вот только чаю глотну…
Она поднесла к губам котелок и сделала два-три глотка.
— Возьми с собой!..
Пока Космас пытался ухватить большой кусок горячей колбасы, Янны уже и след простыл.
«Вот и начинается семейная жизнь», — с улыбкой подумал Космас.
В интендантстве Космасу дали самодельную лампу — консервную банку с ватным фитилем и жиром на донышке.
— На три дня! — предупредил интендант.
При мягком свете лампы, памятуя совет Янны, Космас успешно, трудился над отчетом. Янна вернулась за полночь.
— Завтра уезжаю! Рано утром…
— Уже? Куда?
— По окрестным деревням. Скоро вернусь, надеюсь, застану тебя…
Он еле различал ее в полумраке комнаты. Раньше, в грубой военной форме, Янна казалась ему взрослее и полнее; теперь, переодевшись в платье, она как-то сразу похудела. Она стояла перед ним, тоненькая, хрупкая и очень утомленная. Густые черные волосы подчеркивали бледность ее лица. Редко, очень редко он видел Янну такой, как теперь, — слабой и беззащитной девочкой, и в эти минуты она была ему до боли близкой и родной. В эти минуты Космас ощущал, что его чувство к ней безмерно нежное и чистое, как к сестренке или очень верному другу.
— Спать! Немедленно спать! — сказал Космас и стал собирать бумаги. — Когда тебе нужно вставать?
— Выезжаем на рассвете!
Он первым подал пример и сделал вид, что уснул. Янна положила ладонь ему на лоб.
— Не уедешь без меня?
— А ты можешь завтра не поехать?.. Вот то-то и оно! Я тоже, если скажут, поеду. А сейчас спи. Война скоро кончится, и мы будем ждать друг друга где угодно и сколько угодно…
Янна стала укладываться поудобнее. Кровать была деревянной, и вместо матраца они подстелили какое-то пальто с жестким, словно иголки, ворсом.
— Чем занимается сейчас твой отец? — вдруг спросил Космас.
— Сооружает, наверно, новые платформы, — тихо рассмеялась Янна. — Ты знаешь, какой он упрямый… Считает, что каирское правительство хитрая ловушка, что условия нам предлагают кабальные и соглашаться на них мы не имеем права. Одним словом, он говорит, что нужно отстаивать ПЕЕА. Только на этот раз он, к сожалению, неправ…
— Почему ты так думаешь?
— Все против него…
— Так не судят…
Янна резко повернулась.
— Давай не будем об этом. Есть люди, которые знают лучше нас…
Он поймал ее руку, мягкую и теплую. Их пальцы сплелись, и Космас мгновенно забыл, что Янна устала и завтра ей рано вставать. Янна отняла у него руку, но он снова нашел ее.
Вдруг в комнате раздался странный треск, похожий на скрип двери или шипение жира на раскаленной сковороде.
— Что это?
— Твоя лампа! — засмеялась Янна. — Встань, погаси ее…
Жир в лампе кончился, догорал высохший фитиль.
— А ведь мне дали ее на три дня! — схватился за голову Космас.
— Гаси же, гаси!.. Ох, как пахнет! — Янна сморщилась и закрыла лицо ладонями.
Потушить фитиль оказалось не просто, Космас гасил его пальцами — сантиметр за сантиметром. В комнате стоял запах прогорклого жира.
VI
Янна уехала на рассвете. Не поднимая головы, Космас работал целый день и целый вечер. На следующее утро он явился в штаб с готовым отчетом. Дядя Мицос перелистал первые страницы и остался доволен.
— Хорошо! Очень хорошо! Мне нравится твой деловой стиль, конкретно — имена, цифры. А то знаешь как бывает? Просишь отчет, а тебе принесут стихи или поэму в прозе, и что с ней прикажешь делать? Морока, да и только! Потом решишь отдохнуть, мозги проветрить, открываешь поэму и читаешь — отчет! Я давний друг поэзии, но в последнее время с горечью замечаю, что таких поэм все больше и больше, растут, словно грибы после дождя…
Из штаба Космас направился в редакцию «Астраса», Бубукис прислал ему записку и просил заглянуть. За длинным столом посередине комнаты сидели, склонившись над бумагами, шесть редакторов. Над столом висела электрическая лампочка, и свет ее падал на лысину восседавшего в центре Бубукиса.
— О! — с артистической выразительностью воскликнул Бубукис и вскочил с места. — «Астрас» с почтением приветствует одного из своих основателей!
Он познакомил Космаса со своими коллегами. Все, кроме Элефтерии, были новыми здесь людьми. Элефтерия сидела по правую руку Бубукиса.
— Садись сюда! — пригласил его на свое место Бубукис.
Но Космас сел на скамейку.
— Ты меня не обхаживай, давай напрямик. Чем я обязан такому приему?
— Да ты сам, наверное, догадался, — улыбнулся Бубукис. — Завтра мы всей редакцией думаем пойти к командованию и затребовать тебя к нам. Что скажешь?
— Согласен. Вы спасете меня от худшего варианта. Чует мое сердце, что меня хотят послать…
— На виселицу! — убежденно сказал один из редакторов, самый высокий, фельетонист с псевдонимом Анаксимандр.
— Хуже! К англичанам!
Поднялась веселая суматоха, и самым шумным оказался Анаксимандр. Он размахивал длинными руками, его тонкие, нервные пальцы постукивали по столу, по стулу, по скамье и стенам. Анаксимандр воинственно заявил, что завтра утром пойдет к генералу, которому нравятся его фельетоны, и не оставит там камня на камне, если редакции откажут в ее просьбе…
В разгар их оживленной беседы заскрипела дверь в глубине комнаты. Не успела она открыться, как редакторы дружно умолкли и, словно по приказу, склонились над бумагами. Космас поразился: они вели себя, как набедокурившие школьники.
Дверь между тем отворилась. Быстрым, неслышным шагом к столу подошел мужчина лет тридцати с вьющимися черными волосами, весь перепачканный типографской краской. Он заглянул в бумаги и, убедившись, что верстка не готова, стал сердито ругаться:
— Есть у вас совесть или нет? Сколько можно чесать языками? Вы болтаете, а нам за вас расплачиваться?
Он грозно оглядел редакторов и, еще больше рассерженный их молчанием, резко повернулся и направился к двери.
— Все! Терпения больше нет! Мы уходим!
Бубукис бросился ему наперерез.
— Мы больше не будем! Ты прав, Прометей…
— Что? Прав? Уходим — и точка!
Прометей рвал и метал, и Космас восхитился смелостью Бубукиса, который неустрашимо закрыл дверцу своим телом.
— Да пойми ты нас хоть сегодня! Пришел Космас, ну, мы и сказали на два слова больше положенного…
Услышав о Космасе, Прометей неожиданно смягчился.
— Это ты Космас? — спросил он и подошел поближе.
Бубукис поспешил их представить:
— Прометей, заведующий нашей типографией.
— Очень рад! — протянул ему руку Космас.
— Дай я тебя расцелую! — И как был, весь в типографской краске и бензине, Прометей обнял и трижды поцеловал Космаса. — Ты меня, конечно, не знаешь, мы так и не встретились. Ведь это меня собирались направить к вам в типографию, но я, как назло, заболел, и послали подлеца Сарантоса… Янна твоя хорошо меня знает, мы вместе работали с ней и с бабушкой Агнулой. Помнишь бабушку Агнулу?
Теперь и Космас был рад знакомству с Прометеем, но больше всех радовался Бубукис, а вместе с ним и другие редакторы. Они облегченно вздохнули и, отложив бумаги, закурили.
— Покажи Космасу нашу типографию, — посоветовал Бубукис.
— Ну конечно! Пойдем, пойдем!..
Прометей пропустил Космаса вперед, а сам обернулся к редакторам и предупредил, что через десять минут вернется. По дороге он объяснил Космасу причину своего грозного поведения:
— Если на них не поворчать, газета не выйдет в срок. Соберутся ночью, точно лунатики, и как пойдут работать языками! Они, видишь ли, беседуют, а мы сидим и ждем… Вечное противоречие между умственным и физическим трудом! — засмеялся Прометей. — Синьор Бубукис и этот верзила Анаксимандр и в ус себе не дуют… Сидят, беседуют, улыбаются… Чем не жизнь?
Они пересекли двор и вошли в типографию. Космасу почудилось, будто он снова спустился в свой потайной подвал. Правда, здесь было гораздо просторнее. Кассы не лепились к стене, а вольготно стояли посередине на свежесрубленном столе. Освещение — электрические лампочки. На скамейке — только что отпечатанная страница. В углу — пресс, побольше, чем у них в Афинах, но тоже ручной. Все вокруг напоминало афинский подвал, может быть, потому, что все типографии похожи одна на другую, как похожи друг на друга типографские рабочие. В типографии их было семеро, и когда Прометей представил им гостя. Они побросали работу и собрались вокруг — веселые, улыбающиеся под черными масками.
— Садитесь! Давайте покурим! — предложил Прометей.
— Тогда уж и кофейку сварим! — поддержал его самый старший из рабочих, почти старик.
Им давали повышенный паек, регулярно снабжали сигаретами, а иногда и кофе. Но все они рвались в действующую часть, хотели вкусить настоящей партизанской жизни. Что за жизнь в типографии? Все двадцать четыре часа за кассой, одно и то же, надоело! Без солнца, без ружья, никакой тебе радости! Радость, правда, была, они вкушали ее, когда ловили в редакторских рукописях ошибки, пусть маленькие, пусть орфографические. И ликовали. Это было лучшее развлечение и своего рода мщение редакторам за многочисленные поправки в верстке…
Кофе сварили и погасили электричество, чтобы даром не расходовать энергию. При свете свечи беседа стала еще более задушевной. Прометей окончательно раздобрился и сказал, что редакторы хорошие ребята, хотя и нуждаются в надзоре. Когда они с Космасом вернулись в редакцию и верстка оказалась еще не выверенной, Прометей не проронил ни одного бранного слова, сел на скамейку и продолжал разговор с Космасом.
— Мы спасены! — крикнул Бубукис, когда Прометей забрал верстку и ушел. — Я уверен, что присутствие Космаса поможет нам урегулировать отношения с Прометеем!
— Господи! Только бы рассвело поскорее! — подхватил Анаксимандр, еще не утративший боевого пыла. Слушая их, Космас всерьез начал верить, что на этот раз сумеет отвертеться от безрадостной повинности в английской миссии.
* * *
Утром его вызвали к генералу.
На втором этаже дома, где расположилось командование, обстановка мало чем отличалась от старой избы на Астрасе. Две смежные комнаты, которые занимали генерал и Ставрос, служили им и спальней, и кабинетом.
— Вот и Космас! — По тяжелому голосу Ставроса Космас догадался, что едва ли выйдет отсюда с хорошим настроением.
— Садись! Где-то тут у нас была еще одна табуретка! — пригласил генерал. — Ты у нас теперь вроде Гомера, за которого борются семь городов. Лиас прочит тебя на работу с молодежью. Дядя Мицос готов оставить у себя при штабе. А что нам прикажешь делать?
— Послушай, — сказал Ставрос, — не позднее завтрашнего дня ты должен явиться в английскую миссию. Дело очень серьезное, и поручение командования…
Теперь Космас будет при миссии не переводчиком, а представителем командования дивизии, в одном ранге с Милом. Космас будет равноправным и независимым. Он займет отдельный дом с телефоном для связи с дивизией и возьмет с собой двух связных и ординарца, который будет выполнять и обязанности повара. Космас должен держаться с достоинством офицера греческой армии, но вместе с тем сохранять с миссией самые дружеские отношения, отношения союзников.
— Избегай малейших столкновений и противоречий, — напутствовал его Ставрос. — Любой пустяк может спровоцировать конфликт. Ни одного прецедента, который мог бы очернить нас в глазах союзников. Когда ты выезжаешь?
— Сегодня!
— Сегодня не успеешь! — сказал генерал. — Загляни в интендантство, уладь там все продовольственные и прочие материальные вопросы, подбери связных и ординарца. И в добрый путь!.. Погоди… Передай там от меня привет старику коменданту…
Космас уехал на другое утро: Янне он написал, куда его посылают, и просил позвонить.
* * *
Остановился Космас у своего старого друга, деда Александриса. Дед принял его с радостью и, как комендант, устроил в соседнем доме связного и повара.
— Как вы тут с англичанами живете? — спросил Космас.
Старик с презрительной гримасой пошевелил усами, и нахмурился.
— Черт знает, кто они такие и чего им нужно. Вроде люди как люди, а душа на них не радуется. Навезли в нашу деревню девок, тех самых, сам знаешь… Только баб наших пугают… Может, перевезете их отсюда подальше? Или там шибко порохом пахнет?..
Если бы два-три месяца спустя, когда Космас окончательно распрощался со стариком, с миссией и с вершинами Астраса, его попросили рассказать о жизни англичан, он сказал бы приблизительно то же, что в первый день услышал от деда. В двух словах старик дал ему полный отчет о деятельности капитана Мила и его людей летом 1944 года, о той стороне деятельности, которая была доступна его глазу. Потому что существовала и другая сторона, о которой он не мог догадаться. Но, может быть, дед Александрис с его практическим и трезвым восприятием жизни замечал и понимал гораздо больше, чем казалось Космасу? Может быть. Позднее, когда шел уже сорок пятый год, Космас вдруг припомнил один из своих разговоров с этим малограмотным крестьянином. Они сидели во дворе на теплой завалинке и жевали хлеб. Дед сказал:
— Знаешь, о чем я думаю, когда вижу на своей улице этих беспортошных? Я вспоминаю своего покойного отца, мудрый был старик. Бывало, говорил: «Мети, сын мой, паутину из дома своего, пока она тебя не вымела…»
Персонал английской миссии — англичане, греки и итальянцы — жил припеваючи. Они ни в чем не нуждались, и прав был Стелиос, когда сказал, что им не хватает только бассейна — искупаться в жаркий день.
Раз в месяц с самолетов им сбрасывали тюки и ящики с продовольствием и напитками. Склады трещали от запасов. Кладовщиком был тот самый ефрейтор, которому пришла в голову остроумная идея насчет пакета со взрывчаткой. Однако распределением продовольствия ведал не он, а сержант Вилли. Вилли правил обслуживающим персоналом и производил натуральный обмен с населением. Обслуживающий персонал составляли несколько гречанок, два грека и два итальянца. Обязанности гречанок были многообразны — уборщицы, горничные и любовницы. Три девицы не прикасались ни к какой работе. Это были Мина, Дэзи и Марион. По сведениям Стелиоса, они перешли к англичанам от итальянцев. Итальянцы сдались в плен партизанам из ЭДЕС, и девушки остались без покровителей. Некоторое время они скитались по горам, пока наконец не подвернулись англичане. Теперь им жилось неплохо; хуже, чем у итальянцев, но все же недурно. И они благодарили судьбу, что не попали в руки эласитов. Они не сомневались, что там их ждала бы верная смерть. Двое греков, снабженные золотыми, парашютным шелком и пропусками, разъезжали по окрестным деревням, покупали кур, яйца, мед, масло, овощи и фрукты и отчитывались перед сержантом Вилли. Один из итальянцев был поваром, другой — лакеем, певцом, гармонистом, гитаристом и чуточку паяцем. Всех их Мил раздобыл в частях ЭДЕС.
Кроме Мила, ефрейтора и сержанта в миссии жили еще четверо англичан — лейтенант-радист и трое солдат. При миссии состоял и Стелиос. Мил знал его историю и питал к Стелиосу полное доверие.
Из старой миссии не осталось никого, и капитан Мил ничем не напоминал Антони или Квейля. Мил хранил олимпийское спокойствие, не нервничал по пустякам, редко терял хорошее расположение духа и любил разглагольствовать на темы, которых Антони обычно избегал.
— Нужно быть реалистами, — говорил он Космасу. — Интересы Англии и Греции тесно связаны, и в этой войне мы товарищи по оружию. Что бы ты сказал, если бы организации французского Сопротивления встретили в штыки войска союзников, высадившихся во Франции?
Однажды Мил вызвал Космаса к себе в кабинет. На этот раз он был взволнован и очень напоминал Квейля. Тоном генерала, обращающегося к подчиненному, Мил заявил, что, по его сведениям, первый полк дивизии два дня назад перешел в наступление в районе Лукавицы, не согласовав этого с союзной миссией. Космас уже знал об этой операции, ему позвонили по телефону. Но откуда мог узнать о ней Мил?
— Вы нарушаете соглашение! — кричал Мил, нервно переставляя с места на место чернильницу. Он даже не предложил Космасу сесть. — Никаких передвижений! Ни в коем случае не менять позиций!
Мил настаивал на обязательствах, которые приняла на себя дивизия в связи с планом «Ковчег». Космас готов был отвечать Милу, но сначала заметил, что не находится в распоряжении английской миссии и поэтому не принимает приказов.
Мил тотчас попросил прощения:
— Я все еще под влиянием, этого эпизода и был не сдержан, извините меня…
Он явно растерялся, и, увидев эту разительную перемену в тоне и в выражении лица англичанина, Космас впервые подумал, что Мил не так уж спокоен и уверен в себе, как кажется с первого взгляда. Космас передал то, что ему сказали в штабе дивизии: союзная миссия может не беспокоиться, дивизия соблюдает соглашение, операция в районе Лукавицы не нарушает обязательств, так как очень несущественно меняет расположение партизанских частей. Дивизия намерена произвести еще ряд подобных операций местного значения. Космас передал Милу и слова генерала: даже поражение в случае немецкой атаки не нанесло бы партизанским частям того ущерба, какой незаметно наносит им бездеятельность. Пассивная оборона партизан воодушевляет врага и сеет недоумение среди населения, которое не знает истинной причины промедления. Помимо этих серьезных оснований, существует еще одно, не менее важное. Как известно, партизанская армия питается и вооружается только за счет противника, за счет боевых трофеев. Если бы Генеральный штаб Среднего Востока выполнял свои обещания и осуществлял регулярное снабжение партизанских частей продовольствием и боеприпасами…
Беседа закончилась очень мирно. Космас еще раз напомнил о претензиях дивизии к Генеральному штабу Среднего Востока и перечислил срочные запросы, которые требуют немедленного удовлетворения. Мил проводил его до лестницы и сказал, что непременно пошлет телеграмму своему руководству.
Теперь Космас был убежден, что в глубине души англичанин волнуется, а бравирует только внешне. Вскоре его догадка получила подтверждение. Однажды вечером, за чаем, Мил вернулся к старой теме. Он сказал, что Греция не может планировать своего будущего вне интересов империи. Стало быть, и каждый грек должен считаться с этим в своих личных планах и действиях…
Космас был задет за живое, но постарался ответить как можно спокойнее:
— Хромает твой реализм, хромает на обе ноги…
— Почему? В чем именно?
— В каждой твоей мысли о Греции. Ты говоришь о нас как об имперской колонии. А это не так. По какому праву придут в Грецию британские войска?
— Ну как же! Мы придем по приглашению греческого правительства!
— Правительство, на которое ты ссылаешься, пока признано только королем, а от короля в Греции отказываются даже скалы. Вы, разумеется, поддерживаете это правительство… Но если наши представители не войдут в него, то ничья поддержка ему не поможет. И кто придет в Грецию врагом, будет встречен как враг…
— Ну что ты! Мы ни в коем случае не пойдем против воли греческого народа! Разумнее всего найти взаимовыгодное решение…
— Это другое дело! А то выходит, что британские войска придут сюда на место немецких! Невероятно, не правда ли?
С тех пор Мил избегал затрагивать эти вопросы. Их отношения с Космасом стали более официальными, встречи — редкими.
— Здорово ты с ним разговариваешь! — сказал Космасу Стелиос. — Так и надо! Я знаю англичан, наверно, получше тебя. Чем скромнее и нерешительнее ты держишься, тем настойчивее они напирают.
VII
Лето отступало медленно. Одиночество и вынужденное безделье растягивали и без того длинные дни. Утешал «Астрас», который становился все интереснее и разнообразнее, да радиоприемник, сообщавший последние военные новости. Два раза в месяц Космас спускался в штаб и отводил душу со штабными офицерами.
Англичане жили беззаботно. Стелиос выписал из Каира груду книг и, запершись в своей комнате, с головой ушел в чтение. Мил просыпался около полудня и совершал верховую прогулку вокруг деревни. Потом он обедал и, вооружившись двустволкой, уходил на охоту. Нередко он брал с собой одну из придворных дам, чаще всего Дэзи. Дэзи осторожно перепрыгивала с камня на камень, на каждом шагу вскрикивала «ах!» или «ох!», Мил спешил поддержать ее и сердито уверял, будто как раз в этот момент у него из-под носа вылетела птица.
Однажды Дэзи выехала на прогулку на лошади Мила. Лошадь была смирная, но седло вдруг съехало, и Дэзи едва не упала. Деревенские женщины стояли поблизости, но не кинулись к ней на помощь, а, наоборот, вслух пожелали, чтобы лошадь сбросила ее или сволокла в реку. Связной Космаса, партизан из Румели по имени Нотарас, пожелал Дэзи того же самого, что и женщины, и даже хуже. Дэзи не упала. Она ухватилась за гриву кроткой лошади и благополучно сползла на землю. Больше всего она обиделась на Нотараса и сделала ему строгое внушение. Нотарас погрозил ей кулаком.
— А ну, пошла отсюда, паршивая коза, а то как схвачу за космы…
Он сделал полшага вперед, будто и в самом деле собирался исполнить свою угрозу. Дэзи испугалась, бросила лошадь и пошла жаловаться Милу.
— Я давно уже заметил, — обиженно выговаривал Космасу Мил, — это пренебрежительное, презрительное отношение жителей к дамам нашей миссии…
Космас с улыбкой прервал Мила:
— Я не думаю, Мил, что мы всерьез будем обсуждать этот случай.
— Но она работает в нашей миссии. Я думаю, что партизан должен попросить прощения у оскорбленной дамы.
— Если ты действительно хочешь, чтобы Дэзи осталась в живых, забудь и думать об этом…
Мил не настаивал, и отношения на этот раз не обострились. Вскоре, однако, обострения стали хроническими. В августе, когда развязка приближалась, а правительственный вопрос оставался по-прежнему нерешенным, Мил прилагал все усилия к тому, чтобы ни один день не проходил без осложнений. Целый месяц он только и делал, что высказывал недовольство по поводу всевозможных выдуманных им происшествий и радировал о них в Каир. Верховые прогулки Мила стали нерегулярными, охота и подавно была забыта.
Мил требовал объяснений:
— Почему в районе Кидонохорья в ночь с 1 на 2 августа партизаны ЭЛАС расстреляли десять граждан, отказавшихся вступить в организацию ЭАМ?
Обвинение было конкретным, и Космас немедленно позвонил в штаб. Через час ему сообщили, что ничего подобного не произошло и Мил, если хочет, может лично проверить свои сведения. Но Мил между тем уже радировал своему командованию, оттуда телеграмма с запросом полетела в Генеральный штаб ЭЛАС, из штаба телеграфировали в дивизию. А через три дня новость передавала лондонская радиостанция.
Предупреждение Ставроса: «Избегать малейших столкновений» — было сейчас важно как никогда. Из штаба звонили и просили Космаса обращаться с Милом осторожно и предупредительно. В эти трудные дни Космас тоже научился быть чуточку дипломатом. Ему хотелось схватить фальсификатора за красный, морщинистый, словно у общипанного петуха, загривок, а он приветствовал его дружеским рукопожатием. И вместо того чтобы крикнуть ему: «Мошенник!», сердечно восклицал: «Проходи, проходи, дорогой Мил! Опять хорошие новости?»
То же самое и Мил. Он жал Космасу руку и говорил любезности, хотя предпочел бы сказать совсем другие слова и совсем иначе воспользоваться своими худыми, нервными руками.
Постепенно Космас научился прижимать Мила к стенке и решать все вопросы без долгих проволочек. Как-то раз ночью, когда Мил пришел и сообщил ему, что в деревне Лопеси эласиты устроили концлагерь для партизан ЭДЕС и дурно с ними обращаются, Космас предложил:
— Зачем терять время на телефонные разговоры? Давай сядем на лошадей и поедем прямо в Лопеси!
— Хорошо! — согласился Мил.
Они договорились выехать через час, но через час Мил сказал, что занят и поедет как-нибудь в другой раз.
— Как хочешь, — пожал плечами Космас. — Но я надеюсь, что эту новость не передадут послезавтра по радио.
* * *
В середине августа газеты приносили с фронта много радостных сообщений и предвещали скорую победу. Названия освобожденных городов, фамилии полководцев-победителей, облетая мир, проносились и над Астрасом. Прибалтийские страны снова подняли красный флаг. Советские полки вступили в Краков. С Западного фронта поступали вести о стремительном наступлении в Нормандии, об освобождении Бретани. В Италии войска союзников вступали в окрестности Флоренции. Но Флоренция была далеко, ближе были Балканы, а Балканы кипели. Югославские партизаны выигрывали сражение за сражением, в Румынии объявили о формировании нового, демократического правительства. Толбухин огненным смерчем спускался наперерез немцам, и греческий партизан Нотарас, глядя на Дэзи или Марион, разгуливавших по деревенской улице, дергал ус и, повернувшись к Востоку, призывал: «Жми, Толбухин!»
* * *
В один из этих дней Космас приехал с отчетом в штаб. Ставрос внимательно выслушал его и опять посоветовал избегать столкновений.
— Но и уступать все время тоже нельзя. Если с Милом миндальничать, он на голову сядет. Иногда с ним полезно держаться порешительнее.
— Резонная мысль, только не надо выходить из рамок. Нужно отличать частные случаи от политической линии. Этого как раз и не понимают отдельные товарищи и советуют нам биться головой о стену…
Ставрос взял карандаш и продолжал говорить, задумчиво постукивая по столу. Это была его старая привычка.
— Ты должен знать, что никакая другая точка зрения теперь неприемлема. И тот, у кого нет ветра в голове, кто способен понять элементарные вещи, должен усвоить, что обстоятельства складываются не по принципу — как лучше, а по принципу — как вероятнее. На Францию они бросили одиннадцать тысяч самолетов, сюда столько не нужно, хватит тысячи или даже ста плюс энное количество танков… Неужели мы сломя голову поведем страну на бойню?
Ставрос не называл имен, но Космас понимал, что он имел в виду Спироса.
К вечеру, когда он собрался в обратный путь, из обкома его вызвал к себе Лиас.
— Сегодня заночуешь здесь. Будешь нужен. Не горит ведь у тебя на Астрасе…
На Астрасе ничего не горело, но в штабе Космас доложил, что выедет немедленно.
— Со штабом я улажу, — сказал Лиас. — Сейчас я занят другим делом, когда дойдет твоя очередь, позову. Где ты будешь?.. В газете? Ну иди!
Порой случается так, что люди, не обученные тонким манерам и словно созданные для самых нелестных прозвищ-в тюрьме Лиаса прозвали Буйволом, — такие люди подчас оказываются человечнее и тактичнее тех, которые придумывают им прозвища. Когда поздно вечером Космаса снова вызвали в обком, в кабинете Лиаса он застал Янну, только что вернувшуюся из поездки по деревням.
Лиас сделал вид, что тоже поражен их нечаянной встречей.
— Сколько же времени вы не виделись?
— Да почти целое лето!
— Что? И это молодожены?
За все лето Космас получил от Янны две записки, она писала, что жива и здорова. Космас послал ей на одну записку больше и в последней написал только два слова — еще раз просил позвонить. Янна не позвонила, и теперь Космас требовал объяснений.
— Хотела посмотреть, где предел твоего равнодушия!
— Какого равнодушия? О чем ты?
— Ну конечно! — Янна говорила быстро и раздраженно. — Тебе безразлично, встретимся мы или не встретимся. Встретимся через год или еще позже! Одно только хотела бы я знать: сегодня ты остался из-за меня или случайно?
С трудом Космас подавил в себе желание соврать.
— Знаешь, Янна, это все Буйвол устроил…
— Я так и думала. — Янна вдруг рассмеялась. — Твоя искренность, конечно, очень трогательна, но прозвище Буйвол ты мог бы сохранить для себя…
Она ласково подхватила Космаса под руку.
— Пойдем посидим где-нибудь. И не мешает поужинать. Я проголодалась и устала…
В буфете им дали хлеба и сахару, а на складе банку немецких рыбных консервов и кусок сыра.
— Глаза бы мои не глядели на этот сыр, — сказала Янна. — Дарю свою порцию тебе. А вот консервы — другое дело. Тут я своих прав не уступлю!
В доме обкома была комната с тремя койками. Сейчас она пустовала. Космас ножом открыл банку. Янна взяла ее, понюхала и некоторое время раздумывала, есть или не есть.
— Что еще за фокусы! — прикрикнул на нее Космас. — Замечательные консервы, съедим их за здоровье щедрого интенданта!
— Да, кажется, ничего, — решилась Янна. — Погоди, где-то тут были тарелки…
Она достала тарелки, вилки, покрыла полотенцем скамейку — получился нарядный стол. Вдруг Янна что-то вспомнила.
— Ты ешь! — сказала она Космасу и вышла, а через несколько минут вернулась с гроздью зеленого, неспелого винограда. Ягоды еще только-только начинали наливаться. — Украла! — тихо смеялась Янна. — Сейчас выжмем сок, и будет еще лучше, чем с лимоном.
— Да и без лимона вкусно! Ты только попробуй! — И, чтобы убедить Янну, Космас отправил в рот здоровенный кусок рыбы.
Янна выжала в банку виноградный сок, но сама едва притронулась к еде. Она положила вилку и встала.
— Полежу немножко, а потом поем.
Торопливыми, неуверенными шагами она спешила к кровати.
— В чем дело, Янна?
Он поднял ее руку, свесившуюся с кровати, дотронулся до холодного, чуть влажного лба.
— Да ты больна!
Он гладил ее разметавшиеся по подушке волосы и думал, что сию же минуту должен ей чем-то помочь.
— Я схожу за врачом!
Янна удержала его:
— Не нужно! Пройдет… Это так и бывает!
— Что?
Ее полуоткрытые глаза остановились на нем, в голосе послышались удивление и разочарование:
— Неужели ты до сих пор не догадался?
Он встал на колени возле ее изголовья, он хотел обнять ее, но не посмел. Янна вдруг обрела в его глазах что-то новое, неизвестное и загадочное, он не знал, как теперь с ней обращаться.
— Ничего, пройдет, — сказала Янна с облегчением, — уже лучше…
Она выглядела очень бледной, очень маленькой. Казалось, сил у нее самая капелька, едва хватает, чтобы прошептать несколько слов. Космас смотрел на нее, растерянный и беспомощный, и думал, что с этой минуты если и дотронется до нее, то только кончиками пальцев, нежно-нежно. Взгляд Янны понемногу оживал. Она смотрела на него с улыбкой.
— Что ты чувствуешь?
— Голова кружится, тошнит… Но потом все проходит…
— Сейчас уже прошло? Может, поешь?
— Ой, не напоминай! — отмахнулась Янна, словно отгоняя дурное видение. — Лучше не говори, а то опять будет плохо. И чтобы я всю свою жизнь не слышала о рыбе и консервах! Знаешь, чего я хочу? Чего-нибудь кислого…
— Есть! Будет тебе кислое. Сейчас приготовлю лимонад. Где тут виноградник?
— Сначала убери все со стола. Унеси куда-нибудь подальше…
В роднике Космас набрал холодной воды, и лимонад получился на славу. Янна пришла в себя.
— А теперь давай займемся арифметикой! Когда это будет?
— Нет, не надо! — схватила его за руку Янна. — Говорят, это не к добру!
— Вот уж не ожидал! Рано еще верить приметам! Погоди, давай сперва состаримся!
Янна засмеялась.
— Мне кажется, все люди в глубине души чуточку суеверны, даже самые воинственные атеисты. Я-то уж, во всяком случае, погрязла в суеверии. Как огня боюсь черных кошек…
— Ну, я подсчитал! Это будет в марте! Первый месяц весны — хорошр!
— Вот и неправда! Не в марте, а в феврале!
— Тоже неплохо! Последний месяц зимы… Жаль, что нет под рукой календаря, посмотрели бы, под какой звездой родится.
— «Мужчины, родившиеся в феврале, отважны и любопытны, — наизусть продекламировала Янна. — Обидчивы. Женщины — хорошие хозяйки и счастливы в браке». Вчера в деревне мне, как нарочно, попался под руку календарь…
— На всякий случай надо было заглянуть и на март…
— «Мужчины влюбчивы и легкомысленны, женщины болтливы и хитры…»
— Это не для нас. Наш малыш появится в феврале… Дверь вдруг отворилась, и в комнату ворвалась незнакомая девушка.
— Чего ты здесь сидишь? — крикнула она Янне, но увидела Космаса и остановилась. — Это, конечно, Космас. Очень рада. Мария. Слушайте, какую новость я вам принесла: Лукавица наша!
— Как? Когда?
Янна вскочила с кровати.
— Целый батальон цольясов и вся немецкая охрана сдались в плен! — объявила Мария. — Только что звонили в штаб…
За окном сияла августовская луна, раздавались крики, звучали песни. Офицеры и партизаны собирались группами, расходились и снова собирались — обсуждали радостное известие. Деревня праздновала, и только Космасу победа сулила одни неприятности. Завтра ему снова предстояло давать объяснения, и он предчувствовал новые осложнения в отношениях с союзниками. «Да провались к черту этот Мил!» — вдруг выругался про себя Космас и сразу почувствовал облегчение, словно сбросил с плеча чью-то тяжелую руку.
— Тихо! Тихо! Чего это ты такой сердитый?
Космас обернулся и увидел дядю Мицоса, он улыбался и держал его за локоть.
— Ты мне нужен. Хорошо, что не уехал. Тут один товарищ…
Старик оглянулся.
— Здесь я, дядя Мицос! — Незнакомый офицер как из-под земли вырос между Космасом и полковником.
Космас был поражен этим неожиданным явлением, но после того, как дядя Мицос представил их друг другу, все встало на свои места.
— Капитан Диакос, второй отдел и так далее… Перекрестись и выслушай, у него есть к тебе несколько вопросов…
Капитан Диакос был низкорослый и плотный крепыш лет сорока. Космас уже видел его в штабе. Диакос бродил из комнаты в комнату, ничем как будто не занимался, не вступал в разговоры и сверлил окружающих пытливым взглядом.
— Дело тут вот какое, — сказал он Космасу, когда они отошли за угол. Говорил он так тихо, что едва ли сам себя слышал. — У вас в миссии есть два грека-снабженца по имени Костас и Димитрос. Что это за люди? Что ты о них знаешь? Конкретно!
— Ничего не знаю! Они почти не бывают в деревне!
— Правильно! Так и должно быть! Дальше!
— А дальше и говорить нечего! — признался Космас. — Что-нибудь не в порядке?
— Есть кое-что! Но сейчас и время для разговора неподходящее. — Диакос зевнул, и его металлические зубы, как драгоценное ожерелье, блеснули при свете луны. — И не твое это дело! По правде говоря, я и сам не пришел еще к определенным выводам. Будь добр, последи за ними маленько! Поставь кого-нибудь из партизан, пусть понаблюдают, когда они появляются и когда исчезают. И звони! Договорились! Телефон знаешь? Диакос, второй отдел.
* * *
Брезжил рассвет, когда Космас проводил Янну до двери. Сейчас там спали девушки, и Космас не вошел. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он в последний раз.
— Хорошо, хорошо, — улыбнулась Янна. — Ты не пугайся. Это совсем не страшно.
— Может, все-таки попросить в штабе, чтобы тебя отпустили ко мне на Астрас? Там будет спокойнее…
— Нет, лучше приезжай почаще. Я теперь буду сидеть на месте. Секретарь сказал, что для меня есть работа в деревне. Видно, девушки позаботились, они знают… А ты приезжай почаще…
VIII
Притаившись у окошка крестьянского дома как раз напротив английской миссии, Нотарас следил за каждым движением снабженцев. Однажды ночью, когда время близилось к рассвету, к миссии прискакали двое всадников: один — снабженец Костас и другой — неизвестный. Неизвестный — Нотарас уверял, что это ни в коем случае не Димитрос, — остался у англичан и провел в миссии остаток ночи и целый день, ни разу не появившись на улице. Он наверняка находился еще в деревне, и нужно было проследить, уедет ли он ночью.
— А выдержишь ты еще одну ночь у окошка? — спросил Космас.
— Выдержу! — поклялся Нотарас, хотя глаза у него слипались.
— Иди-ка ты выспись хорошенько, а сторожить мы поставим старика коменданта.
Довольный дед побежал устраиваться под окошком.
— Не тревожься! — успокаивал он Космаса. — От меня не уйдет. Призрака не пропущу, не то что человека. Я все равно что ночной филин… Еще отец, царствие ему небесное, приучил меня видеть ночью не хуже совы…
Космас лег, но еще не уснул, когда, задыхаясь от бега, примчался сияющий дед.
— Вышли, голубчики! Второй не Димитрос! Нет! Костас зашел за ним, и оба ускакали! Вставай! Пойдем им наперерез.
— Тихо, дед, тихо!
Гнаться за ними было неразумно. Надежда на успех сомнительная. Если хоть один скроется, то найдет способ оповестить англичан, и дело будет проиграно. Космас обязан был позвонить Диакосу, но он решил проявить немного инициативы и связаться по телефону с Шукры-Бали. Командиром резервной группы ЭЛАС в Шукры-Бали был инвалид-партизан, с которым Космас познакомился в госпитале. Космас попросил его перекрыть дорогу и проверить пропуска у двух мужчин, которые спустятся с Астраса.
— Смотри, чтоб не сбежали, и сразу же позвони!
— Не сбегут! Считай, что они уже в моих руках!
Пока они с дедом ждали звонка из Шукры-Бали, Космас ломал голову над новой загадкой. Если второй всадник не Димитрос, то наверняка кто-нибудь из местных и английского, конечно, не знает. Стало быть, в этой грязной истории каким-то образом замешан Стелиос, без него приезжий не смог бы объясниться с Милом. Но ни Нотарас, ни старик не видели, чтобы Стелиос заходил в дом миссии. Все это порождало разные подозрения и догадки, и Космас стал обдумывать их одну за другой, удовлетворенный своей находчивостью и расторопностью. В эту самую минуту, как придушенная курица, прохрипел телефон, и в трубке послышалось громкое ругательство командира из Шукры-Бали.
— Если ты мне еще раз подложишь такую свинью… Приснилось тебе, что ли? Да это же снабженцы из миссии, и бумаги у них в порядке!
— Что ты говоришь? Ну, прости, друг!
— Осечка, стало быть, или разыграл по дружбе?
— Осечка, брат, осечка…
— Ну, будь здоров! А если опять приснится, звони кому-нибудь другому…
Старому коменданту Космас не сказал ни слова и выместил зло на Нотарасе. Нотарас спал и улыбался во сне. Космас хорошенько тряхнул его за плечо. Нотарас вскочил и спросонья схватился за «штайер».
— Оплошали мы с тобой, — сказал Космас, — проглядели…
— Что?.. Не Димитрос это был! Клянусь, что не он! Голову даю на отсечение! — и Нотарас сунул голову в кадку с водой, чтобы прогнать остатки сна.
Дед тоже клялся и божился. «Ну ладно, позвоню в штаб», — решил Космас и попросил его соединить со вторым отделом. Диакос спал, видать, в обнимку с телефоном.
— Да! — послышался в трубке его бодрый голос. — Слушаю. Что?.. Значит, так? Так и должно быть! С пропусками путешествуют…
— Знаешь, мы уверены, что один из них не снабженец!
— Правильно! Так и должно быть!
— Почему?
— Проще простого, — снисходительно отозвался Диакос. — Мозгами пошевели, в этих делах смекалку нужна! Еще не понял?.. Что?.. Ну конечно! По бумагам одного из них разъезжают другие! Продолжай наблюдение и звони!.. Никакой инициативы!..
— А что ты скажешь насчет того, что они обходятся без переводчика?
— Ценное замечание. Молодец! Значит, есть у тебя к этому делу способности, и со временем наше сотрудничество…
— Спокойной ночи! — крикнул Космас.
* * *
Сразу же следом за Лукавицей пал городок Хелидони. После двухдневной жестокой борьбы за каждый дом его освободил полк Вардиса. Хелидони был важным стратегическим пунктом — чуть пониже, в долине, всего в нескольких километрах, находилась Астипалея, там проходили шоссе и железная дорога. Но не только поэтому была значительна победа в Хелидони. Партизаны дали здесь первое сражение открытым фронтом. Затяжные уличные бои позволили немцам и цольясам получить подкрепление, однако подкрепление оказалось очень незначительным, и партизаны разбили его еще на подступах к городку.
Едва затих бой, в Хелидони перебрался штаб дивизии. Жители встретили партизан очень торжественно. После, бурного митинга по всему городу прошел народный праздник.
Космас узнал об этом по телефону, но, согласно строгому предписанию Диакоса, ни слова не сказал Милу. Нужно было проследить, когда и как Мил получит информацию по своим каналам… Еще не стемнело, когда, почти загнав лошадь, на Астрас примчался Димитрос. Немного обождав, Космас зашел к англичанам и застал Мила в дурном расположении духа.
— Что вы делаете? Неужели не понимаете, что с минуты на минуту мы получим приказ о наступлении? Боевые части должны готовиться и набираться сил! А вы утомляете их этими ненужными бросками!
— Я уполномочен заявить тебе, Мил, — весело сказал Космас, — что дивизия в состоянии выполнить любой приказ. Мы захватили ключевые пункты и много боеприпасов… Как видно, приходит конец и нашему затворничеству, Мил. Скоро мы скажем Астрасу: «Прощай!» На очереди Астипалея, а там…
От англичан Космас вышел вместе со Стелиосом.
— Расстроился, бедняга, — смеялся Стелиос. — Первый раз я видел его таким взвинченным…
— Откуда он узнал?
— Ты что, не видел бедную загнанную лошадку?
— Скажи-ка мне по правде, Стелиос, что за люди эти снабженцы?
— Гм… Димитрос и Костас? — Стелиос лукаво подмигнул. — Что-нибудь подозреваешь?
— А ты?
— Я только одно подозреваю — английский они знают не хуже греческого.
* * *
Финал этой истории со снабженцами наступил однажды ночью.
С трудом пробудившись от крепкого сна, Космас поднял трубку и услышал знакомый голос:
— Говорит Диакос. Как дела?
— Привет, — зевнул Космас. — Дела хороши. Видел тебя во сне. Ты спрашивал меня, что нового, а я то же самое спрашивал у тебя…
— Так и должно быть. На этот раз новости у меня. Слушай внимательно, что я скажу… Да, да. Собери все силы, что есть в деревне, и перекрой дороги. Смотри, чтобы даже кот не проскочил. Пусть ребята возьмут оружие — могут встретить сопротивление. Я, конечно, уверен, что мы всех переловим, но чем черт не шутит… Если кто-нибудь вырвется, то наверняка будет искать убежище в миссии… Что?.. Ну, ясное дело! Кто бы то ни был — англичанин, снабженец, хоть его величество король. Хватайте и под охраной пошлите в Шукры-Бали. Сам, понятно, держись в стороне, не вмешивайся! Изображай невинную голубку… Что ты говоришь? Трудно? Да будет болтать-то! Какой же ты, к черту, дипломат?
— Ты хоть скажи, в чем дело? Что случилось?
— Много будешь знать — скоро состаришься. Делай, что сказано…
Не поднимая шума, Космас созвал свою гвардию — группу эласитов-резервистов. Вооруженные древними одностволками, они заняли подступы к деревне со стороны Шукры-Бали и Криакуро. Космас остался дома, в любую минуту готовый изображать невинную голубку.
Ночь прошла без сна, но и без происшествий. Утром опять позвонил Диакос:
— Отбой! Все в порядке! Если англичанин будет волноваться за своих снабженцев, скажи, что понятия не имеешь. Сперва посоветуемся со штабом, а потом уже объявим официально.
— Скажи хоть в двух словах: что произошло? Кого вы схватили?
— Шестерых наших и обоих снабженцев. Всего восемь душ. Ничего особенного, заговор во втором полку, шпионаж, золотые — все как положено между союзниками. В конечном итоге ничего опасного, но факт тот, что мы их все-таки накрыли. Если интересуешься подробностями, приезжай в Цихейку. Мы тут все в сборе, даже дивизионный прокурор…
— А Мила пригласить? — пошутил Космас.
— Немного погодя пригласим.
После обеда Космас оседлал лошадь и направился в Цихейку — это была маленькая деревня за Шукры-Бали. Арестованные, кроме снабженцев, выложили прокурору все, что знали. Все шестеро — двое офицеров и четверо бойцов — раньше состояли в ЭДЕС и зимой, во время операций, перешли в ЭЛАС. Они служили в разных батальонах второго полка, связь со снабженцами держал офицер оперативного отдела лейтенант Георгудис. Он возглавлял заговор и признался, что трижды встречался на Астрасе с английским офицером Бернардом.
— Есть в миссии такой офицер? — спросил прокурор Космаса.
— Есть, лейтенант Бернард, радист. Мил, как видно, не захотел пачкать руки.
Заговорщики сообщали в миссию о всех событиях в полку и в дивизии и находились в боевой готовности.
В нужный момент, по приказу, они должны были уничтожить командование и всех офицеров, подверженных коммунистическому влиянию, и взять полк в свои руки. Их снабдили бесшумными револьверами и ампулами с ядом мгновенного действия в маленьких металлических коробочках.
— Заговорщики, бесшумные револьверы, ампулы с ядом, список обреченных — все как в детективном романе, — засмеялся Космас. — Только масок не хватает…
— Маска тоже есть! — сказал прокурор. — В рюкзаке Георгудиса револьвер и коробка с ампулами были завернуты в черную маску. Так что все по форме!
— А как вы их раскрыли?
— Сначала они сами оступились — попробовали завербовать одного офицера, он тоже раньше состоял в ЭДЕС. Завербовать не удалось. Тут же за дело взялся Диакос, а раз дело попало к Диакосу, деваться им было некуда…
Диакос скромно кашлянул.
— Я с пеленок слышал о шпионах в масках и о бесшумных револьверах. Можно хоть посмотреть, какие они из себя, эти шпионы? — попросил Космас.
Прокурор не возражал, но Диакос заявил, что представителю командования в английской миссии не пристало вмешиваться в эту историю.
— Они сидят все вместе, а снабженцы тебя знают. Мы еще не решили, что с ними делать. Отказываются отвечать и требуют встречи с Милом. Не иначе, как агенты Интеллидженс сервис. Скорее всего английские подданные, хотя чистые греки по происхождению. Посмотрим теперь, как прореагирует миссия!
Мил реагировал двухдневным молчанием и феноменальным спокойствием. Но на третий день его волнение стало ощутимым. Дважды он сам собирался проехать по деревням, но оба раза передумывал.
— Не случилось ли чего с ними? — спросил он Космаса.
— Что с ними случится? Лакомятся где-нибудь свежим медком!
Вечером позвонил начальник штаба.
— Как поживает наш общий друг? Гневается, что, снабженцы не несут ему курочек? Можешь ему сказать, что я нахожусь в Цихейке и завтра утром буду его ждать.
Если не пожелает приехать, расскажи ему, как обстоит дело. Заверь его, что на суде он сможет присутствовать. Мил для видимости спросил:
— Как ты думаешь, зачем он меня вызывает?
— Что ж тут странного? Он начальник штаба. Насчет какой-нибудь операции… Когда выезжаем?
— Утром.
Перед начальником штаба Мил изображал оскорбленную невинность.
— Послушайте, капитан, — сказал полковник, — как говорят юристы, улики, которыми мы располагаем, неопровержимы и, я бы сказал, испепеляющи. Взгляните на эти игрушки — револьверы, ампулы, маски, — вы узнаете их?.. Нет? Хочу этому верить! Зато лейтенант Бернард их узнает наверняка. На этих вещичках есть отпечатки его пальцев. Извольте сами сделать выводы.
— Я глубоко сожалею, если это так, — сказал Мил. — Я немедленно доложу об этом командованию.
— Мы соблюдали и будем соблюдать до конца все правовые нормы. Показания подсудимых, копии допросов и сами подсудимые к вашим услугам. Суд состоится в скором времени, и вы сможете на нем присутствовать.
Космас был уверен, что Мил воспользуется предложением и пожелает повидать хотя бы снабженцев. Он не изъявил этого желания и ограничился напоминанием, что снабженцы состоят на службе в миссии.
— Если они английские подданные, то сейчас я еще не смогу вам сказать, что их ожидает, — ответил полковник.
* * *
Суд не состоялся. Однажды ночью Космас проснулся от сильного стука в дверь и услышал голос Мила. Едва он открыл, как оказался в крепких объятиях. Мил прыгал от радости, и спиртным от него не пахло.
— Что случилось, Мил?
— То, чего все мы ждали! И мы, и вы — все! Тот самый выход, который всех устраивает! Только что по радио объявили о формировании национального правительства при участии ваших представителей… Гип-гип-ура! Пришел конец всем недоразумениям и осложнениям. Скоро мы отпразднуем освобождение! А теперь одевайся, пойдем выпьем за здоровье национального правительства!
Я жду…
На шум выбежал полуголый дед Александрис.
— С чего это он прыгает? Неужто у нас беда какая?
— Не беда, дед. У нас теперь есть правительство.
— Правительство? А чего ж тогда радуется этот прощелыга?
* * *
На другое утро прилетели самолеты и разбросали прокламации. В самом деле, 2 сентября в Каире было сформировано правительство.
IX
Мил был весел, избегал конфликтов и не посылал своему командованию радиограмму за радиограммой. Историю со снабженцами он называл «печальным эпизодом», а лейтенанта Бернарда срочно отправил в штаб-квартиру Центральной миссии. Через некоторое время после радиограммы из Генерального штаба следом за Бернардом отправились и два агента Интеллидженс сервис, давшие зарок больше не откликаться на имена Костас и Димитрос…
Так уходило лето. В самом начале сентября сразу похолодало. Небо потеряло летнюю голубизну и прозрачность, то тут, то там появились тучки, местами прошли дожди. По утрам Астрас хмурился, недовольный, невыспавшийся, но кто его замечал? Все взоры были обращены к долине, где разыгрывалось последнее действие. Свобода шагала из города в город…
— Пора и нам спускаться, — согласился Мил. — Ты правильно говоришь, пора положить конец нашему затворничеству.
Они решили перебраться в Хелидони, поближе к штабу. У Космаса было счастливое, приподнятое настроение — так радуется заключенный, отбывший срок наказания и ожидающий заветной минуты, когда перед ним распахнутся двери тюрьмы. В Хелидони он надеялся отделаться от Мила: штаб будет рядом, и специальный представитель не понадобится.
Мил уже уложил свои вещи, из штаба прислали мулов для перевозки, но в самую последнюю минуту позвонил дядя Мицос и попросил отложить переезд дня на два.
«Почему? С чего бы это?» — терялся в дурных догадках Мил.
Он приказал распаковать радиоаппаратуру и засыпал Каир радиограммами. Космас снова узнавал подозрительного, недоверчивого Мила.
Голос дяди Мицоса послышался на третью ночь — далекий, радостный, в гуле веселого торжества. Космас понял только одно: надо срочно выезжать. Их ждали уже в Астипалее, которая освобождена несколько часов назад.
— Так вот, оказывается, в чем дело! — сказал Мил. — Ну хорошо! Я думаю, нужно ехать!
* * *
Годы ушли на то, чтобы подготовить, проложить этот путь. Теперь партизаны преодолели его, не сходя с лошадей. Они проезжали мимо разоренных деревень и обгоняли крестьян, которые тоже спускались в город, чтобы принять участие в празднике. Все дома — и погоревшие и уцелевшие — были украшены флагами и лозунгами. Жители выходили на дорогу, босоногие ребятишки с деревянными ружьями провожали партизан до следующей деревни и там передавали с рук на руки новой ватаге, так что они ни на минуту не оставались на дороге одни. Космас замечал, что от деревни к деревне все больше было жителей, все оживленнее и пестрее становилась толпа встречающих, они несли с собой знакомый, забытый воздух города. И всадникам, и лошадям дышалось легче и свободнее. Трудный переход был позади, а впереди их ожидала большая река, она еще пряталась, но все вокруг выдавало ее близость — и пологий склон, и свежий ветерок, и веселые ручейки, и платаны с ивами. Открывались новые горизонты, удалялись старые. Удалялись, но не исчезали. Несколько часов прошло с той минуты, как Космас оглянулся и не увидел пик Астраса. Потом еще несколько низеньких холмов, редкий лесок, еще один спуск — и позади не видно уже ни одной скалы, ни одной высокой вершины. Но стоило мелькнуть в толпе черной бороде над скрещенными патронными лентами, как перед ним вырастала неукротимая вершина. Люди и горы не хотели расставаться, они вместе вошли в душу Космаса, и он нес их в себе вместе. Два образа слились в один, прямой и суровый, как горы, мягкий и горячий, как люди…
В Хелидони они добрались вечером. Толпа девушек и юношей заключила их в плотное кольцо и оглушила песнями. Так, осажденные молодежью, они бродили по узеньким улочкам города до тех пор, пока сквозь толпу к ним не пробрался лейтенант из штаба и не взял под свою опеку. Он проводил их в отведенную англичанам резиденцию.
— Сегодня заночуете здесь. Завтра торжественный въезд в Астипалею, митинг, демонстрация.
Когда утром Мил и его сопровождающие вышли на маленькую площадь Хелидони, в городок вступила колонна пленных из Астипалеи. Цольясы узнали англичан, из колонны послышались возгласы: «Да здравствует Англия!»
— Кто это нас приветствует? — поинтересовался Мил.
— Предатели! — ответил Космас.
Но тут из колонны цольясов послышались уже вовсе не лестные для Англии крики:
— Это вы нам напакостили! Все из-за вас!
Стелиос не преминул перевести это Милу.
Вдруг послышались автомобильные гудки. Медленно и торжественно на площадь въехали машины, запахло, бензином, городом. «Джипы», дряхлые такси, военные грузовики — трофеи из Астипалеи — бесконечной вереницей с ревом пробирались через толпу.
В одной из машин Космас увидел знакомых штабных офицеров, потом главного врача, а потом из подъехавшего «джипа» его окликнула Янна. Она открыла дверцу, и он прыгнул на ходу.
— В Астипалее настоящее светопреставление, — рассказывала Янна. — Вот уже сутки звонят колокола. На улицах тысячи людей, ждут демонстрации…
* * *
Улицы Астипалеи были пошире, но машины плыли по ним медленно, раздвигая сплошную стену народа. Спускаясь к центру, они увидели главную улицу — яркую, пеструю, кричащую. Люди висели на балконах, сидели на телеграфных столбах, а внизу простирался лес знамен, плакатов и поднятых кулаков.
Сначала они были ошеломленными зрителями, но потом тоже подняли кулаки и уже ничего не слышали, кроме своих охрипших голосов. За бортом автомобиля колыхались протянутые к ним руки…
Перебрались через мост, протиснулись в узенький, увешанный флагами переулок и выехали на центральную площадь Астипалеи, к церкви Трех иерархов.
Из широких окон старинного особняка площадь была видна как на ладони. Дом принадлежал одному из местных помещиков. Сейчас на длинный и широкий балкон, с которого не раз произносились предвыборные речи, вышли партизанские командиры и руководители местных организаций. Рупоры призывали к порядку. На помощь им откуда-то пришла труба. Трубач прохрипел старинную военную мелодию на слова: «Солдатушки, ребятушки, куда вы идете?» Площадь содрогнулась от хохота и умолкла.
Говорил генерал. Он начал свою речь с обращения:
— Вам, свободные граждане, я шлю горячий патриотический привет!..
К Космасу подошел Стелиос и отвел его в сторону.
— Сейчас будет говорить Мил. Прошу тебя, переводи ты…
С Астипалеей у Стелиоса были давние счеты, отсюда начались его злоключения с цольясами. Мог ли он появиться сейчас на балконе?
Мил начал свою речь с похвалы партизанам. Он всю жизнь будет гордиться, что ему пришлось воевать в одном строю с греческими героями. Английский народ восхищается Грецией и уважает ее, как ни одно другое государство.
— Когда в 1940 году, — говорил Мил, — Франция пала и моя страна одна продолжала войну, из всех других государств только Греция верила в победу и не склонилась перед фашизмом.
Площадь откликнулась аплодисментами. Раздались крики:
— Дайте нам оружие!
— Что они кричат? — спросил Мил. Космас перевел.
— И у нас в 1940 году не было оружия, — старался перекрыть шум площади Мил, — но мы все равно сражались…
— Теперь у вас есть оружие! — кричали снизу. — Дайте нам оружие!
— Я приветствую свободных жителей Астипалеи, — продолжал Мил. — Вы перенесли много лишений, но скоро на помощь вам придут союзники. В греческие порты войдут английские корабли. Они привезут одежду, продовольствие, все необходимое.
Толпа не давала ему говорить. Космас чувствовал, что его охрипший голос тонет в гуле других голосов, скандировавших:
— Оружие!
— Что они говорят теперь? — спросил Мил.
— То же самое.
Мил отошел от перил и спрятался за генерала.
— Я кончил, — сказал он Космасу.
Гул стих. На балконе показался митрополит Иерофей. Его узнали. По площади пронесся легкий шепот. Осенью 1942 года гитлеровский подполковник вызвал митрополита к себе и, положив на стол лист бумаги, сказал: «Здесь вы своей рукой напишете имена двадцати коммунистов, подлежащих расстрелу». — «Хорошо, — мягко ответил митрополит, — но я знаю только одного». И ровными, красивыми буквами он написал свое имя: «Иерофей».
С золотым крестом на груди, в митре с длинной черной мантией, Иерофей остановился у перил балкона и поднял руку для благословения.
— Да здравствует свобода! — крикнул он дрогнувшим голосом и благословил толпу. Народ подхватил его здравницу, но митрополит призвал людей к молчанию и, когда тишина восстановилась, снова крикнул:
— Да здравствуют наши партизаны! Да здравствует надежда нации!
* * *
Астипалеоты праздновали целый день, целую ночь и весь следующий день — выходной. Молодежь пела и толпами ходила за партизанами. Вечером, после митинга, на площади состоялся бал. Партизаны и тут оказались в центре внимания. На каждом шагу их окружали радостные и любопытные жители, вопросам не было конца. В таком окружении не раз оказывался и Космас, хорошенькие астипалеотки вручили ему немало алых роз. Однако его букет бледнел перед пышными трофеями Леона, который был в ударе и пользовался особой популярностью.
Зато бедного Бубукиса никто не приветил, и он попросил одну розу у Космаса. Несколько минут спустя Космас заметил эту розу в руках Элефтерии.
В воскресенье после обеда Мил вызвал Космаса к себе.
— Вот эти юноши, — указал он на своих гостей, — представляют организации, не входящие в ЭАМ. Они хотят устроить свою демонстрацию. Я думаю, их желание справедливо…
Четверо благовоспитанных и элегантно одетых юношей в изысканно вежливых выражениях подтвердили слова Мила.
— А разве вы не участвовали во вчерашней демонстрации? — удивился Космас.
— Вчера праздновал ЭАМ, — сказал юноша, представлявший союз «Летучая бригада». — А в городе есть еще пять, если не больше, организаций…
Космас передал их просьбу командованию; ему ответили, что этими вопросами занимается комендатура. Мил вызвал Стелиоса и изъявил готовность сопровождать юных представителей в комендатуру, которая, кстати, находилась в соседнем доме.
Итак, в конце дня на площади Трех иерархов состоялась еще одна демонстрация. Впереди шел юноша со знаменем, за ним парами следовали четыре девушки и восемь юношей. Они шагали в ногу, молчаливо и благопристойно. Астипалеоты давали им дорогу и отпускали добродушные комплименты.
— Сколько их всего? — вглядывался Мил.
— Тринадцать! — подсказал Космас. — Дурное число!
— В самом деле! — согласился англичанин и сунул в карман листок с заготовленной речью.
— Что ни говори, — заметил Стелиос, — а для этого тоже нужна храбрость. Я ни за что в жизни не пошел бы по своей воле…
Колонна пересекла многолюдную площадь и скрылась за церковью. Демонстрация прошла мирно, без инцидентов. Только в самом конце случилось нечто неожиданное. Из толпы выскочил трубач, встал рядом со знаменосцем и, равняя по нему шаг, заиграл старинный марш, к которому давным-давно какой-то шутник подобрал слова, известные в Астипалее даже младенцам:
Дядя, дядя,
Погляди-ка, дядя,
Ах, какие девушки
К нам сюда идут!
Веселые астипалеоты насладились еще одним развлечением.
* * *
Освобождение Космаса произошло две недели спустя после освобождения Астипалеи. Однажды вечером Космас сидел в обкоме у Лиаса. Чья-то ладонь закрыла ему глаза, а знакомый голос спросил:
— Так как же поживает наш дипломат? Улыбающийся, в штатском костюме, стоял возле Космаса Спирос.
Много времени прошло с тех пор, как они виделись в последний раз, и Космасу казалось, что он очень повзрослел, что с каждым минувшим месяцем он оставлял позади годы жизни. Но теперь под умным, проницательным взглядом Спироса эти годы словно возвратились к Космасу обратно, он чувствовал себя по-прежнему неоперившимся и непоправимо юным. Он был мальчиком, когда впервые узнал Спироса, и с тех пор всегда оставался перед ним мальчиком.
— Не надоела дипломатия? Или, может, еще потерпишь?
— Слышать не могу, ненавижу…
— Ну, тогда мы сговоримся. Пойдем потолкуем. Они перекочевали в соседний кабинет.
— О прошлом говорить не будем. И я все о тебе знаю, и ты тоже, должно быть, обо мне знаешь… Вот так оно в жизни и бывает, порой приходится от чего-то отказаться, что-то потерять, но потери эти ровно ничего не значат, если сохраняется вкус к жизни и борьбе… Как твои дела? Как настроение?
— Прекрасно! Какое еще теперь может быть настроение? Дело идет к концу.
Спирос положил руку на плечо Космаса и улыбнулся.
— К концу, говоришь? Не нравится мне это настроение конца, я его к себе за версту не подпускаю. Пахнет бездельем, неподвижностью, ленью — неприятное, мертвое состояние. Я предпочитаю беспокойную горячность начала… Всегда что-нибудь начинается, Космас, на это и надо настраиваться…
Спирос приехал в Астипалею минувшей ночью, но никто его здесь не видел. Эта предосторожность, и штатский костюм, и неопределенные намеки в начале разговора были весьма явными симптомами, и Космас не замедлил поставить диагноз, он склонился над столом и тихонько спросил:
— В Афины?
— Если я скажу «да», что ты ответишь?
— Ничего не отвечу, возьму и расцелую…
Спирос громко рассмеялся.
— Наверно, форма военная, да и горы приелись тебе не менее, чем дипломатия?
— Чего там скрывать? Приятного мало! Дай бог, чтобы в первый и последний раз…
— А по нашему подвалу ты не соскучился? — внимательно посмотрел на Космаса Спирос.
— Опять?
— А ты как думал? В Афинах еще смутно. Возьмемся за старое ремесло… Как там говорится: «Старое ремесло далеко не отпустит».
— Был у нас один занятный партизан, знаешь, какой говорил? Вот послушай: «Лет сорок был я у руля и вновь скатился в юнги!»
— Как, как? — весело переспросил Спирос. — Да это же прямо про меня сказано!
Выезд был намечен на следующую ночь. В нескольких километрах за Астипалеей начиналась оккупированная территория — немцы, цольясы, проверка документов. Нужно запастись паспортами, пропусками, гражданской одеждой.
— О паспортах и пропусках позаботятся другие, а ты сейчас же ступай к Янне, она оденет тебя как положено… Ну чего смотришь? Конечно, возьмем с собой! Неужели бросим бедняжку на произвол судьбы?
Из всех своих друзей Космас успел навестить только Бубукиса. Он забежал к нему в редакцию вечером, незадолго до отъезда. Бубукис сидел над версткой завтрашнего номера и, разговаривая с Космасом, не сводил глаз с двери, откуда с минуты на минуту должен был появиться Прометей.
— Ну ладно, тебе не до меня, — протянул ему руку Космас. — Будь здоров. Передавай привет Элефтерии, Она очень хорошая девушка.
Усталый от кропотливой, утомительной работы Бубукис вдруг оживился.
— Ты тоже так думаешь? — Бубукис положил карандаш и мужественно отодвинул верстку. — Да, она, конечно, замечательный человек! Садись, чего же ты стоишь…
Увлеченные беседой, они не сразу заметили появление Прометея.
— Чего ты там копаешься? — беззлобно спросил Прометей, забирая со стола верстку. — Это теперь пойдет на помойку. Пиши все сначала. Да вы что, не слышали про генерала Скоби?
— Нет! Кто это?
— Английский главнокомандующий греческой армии. Только что передали по радио.
Лондонская радиостанция объявила, что в Генеральном штабе Среднего Востока состоялось важное совещание. Согласно документу, подписанному генералом Уилсоном, английским министром Макмилланом, греческим премьер-министром и главами греческих партизанских армий, все греческие вооруженные силы подчинялись теперь правительству, а главнокомандующим правительство назначило генерала Скоби.
Космас поспешил распрощаться.
— Пора, Космас, торопись, а то твой друг Мил воспользуется этой новостью, — шутил Спирос, — возьмет и наложит вето, он теперь вправе не отпустить тебя из Астипалеи.
От партизанской жизни у Космаса оставался теперь только револьвер. С оружием трудно расставаться даже самому миролюбивому человеку. Но расставаться приходилось. Космас вынул револьвер и отдал его Лиасу.
— Может, будешь помнить чуть подольше!
В штатских костюмах и без оружия ступили они на дорогу, убегающую вниз. Они возвращались. Возвращались ли? Лиас требовал вычеркнуть это слово из лексикона, потому что оно никогда не отражает истины. Он утверждал, что никто и ничто не возвращается. Под мнимым, обманчивым понятием возвращения скрывается путь к новому и неизвестному.
— Пора, ребята, пора! — подал сигнал Спирос. — Время не ждет!
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Свободу! Черпайте свободу до дна!
Свободу — до смерти! Свободу — до ада!
Сикелианос
I
Эту площадь, на которой бушует людская лавина, Космас помнит с других времен. Отсюда в морозный вечер злой и коварной весны 1942 года он впервые увидел Афины, дрожащие от холода и умирающие голодной смертью. На цементных ступенях, где сейчас танцует молодежь, доживали последние часы какие-то бедняки, а рядом сидел ограбленный мертвец, которого никто не хотел хоронить. Встреча с ним была для Космаса первой встречей со столицей. Он сидел здесь, неизвестный человечек с галстуком-бабочкой и босой — кто-то успел снять с него ботинки. Сколько людей вместе с ним нашли здесь свой конец? Скорбный гимн памяти павших, который звучит сегодня на улицах, пусть будет и в его честь.
С балкона гостиницы «Александр Великий» на площадь выплеснулось знамя. Народ приветствовал его дружным: «…а-а-а…» Широкой волной, словно ветер, пронесся этот возглас по площади и разлился по всем восьми выходящим на нее улицам. Это было бело-голубое греческое знамя. Где-то запели гимн. Голоса поднимались из глубины и надвигались, точно прибой, переваливаясь с одного гребня на другой.
Справа от греческого знамени разворачивали еще одно. Люди поднимались на цыпочки, запрокидывали голову. На голубом фоне показался красный лучистый крест — толпа замахала руками, платками, шляпами. Она приветствовала своих союзников сорокового года, отважных новозеландских летчиков и минеров, джонов и томов в надвинутых на одну бровь беретах. Свободные граждане чтили их память…
Еще одно древко укрепили на железной решетке, и перед афинянами развернулось звездно-полосатое полотнище. Еще раз отгремела аплодисментами площадь, отгремела и затихла в ожидании. Однако на балконе ничего больше не готовили, и тогда снизу послышались крики:
— Эй, еще не все! Еще! Еще! На балконе никто не появлялся.
— Еще! — требовали снизу, и крики соединялись в ритмичном: — Е-ще! Е-ще! Е-ще!..
Нетерпение нарастало, в воздух взметнулись кулаки.
На балконе зашевелились. Мужчина с тяжелым шестом шагнул вперед, алое знамя хлынуло в толпу и завихрилось на ветру. Площадь загудела и загрохотала, люди снова становились на цыпочки и тянулись посмотреть, как свободно, на почетном и законном месте, развевалось шелковое полотнище цвета крови и великих надежд.
* * *
Еще накануне праздника некоторые благоразумные граждане предрекали беду: выльется на улицы безумная толпа и все перевернет вверх дном. И благоразумные граждане припоминали известную историю о неграх, сорвавших ненавистные цепи и в порыве слепой ярости перебивших весь экипаж корабля, а потом погибших в борьбе с океаном, потому что искусство мореходства им было неведомо.
Но кипевшее на улицах людское море оказалось чрезвычайно дисциплинированным, чрезвычайно послушным и кротким. Демонстранты шагали в строгом порядке, одна за другой следовали бесчисленные колонны обществ, союзов, организаций, районов…
Молодежь кричала и пела, и Космас тоже кричал и пел. Он радовался, что может свободно и беззаботно идти куда глаза глядят, радовался, что уговорил Янну остаться дома, она не выдержала бы такой сутолоки.
Рядом из длинного, сияющего никелем рупора, словно припаянного к губам здоровенного, широкоплечего детины, вылетали громовые призывы. Толпа подхватывала их.
Перед зданием банка Космас заметил оживление, какие-то люди пробирались наперерез колоннам.
— Держите его! — послышались голоса. — Это шпик! Он из шайки Калогерасов! И еще пилотку партизанскую надел!
Космас поспешил на крики.
— В чем дело?
— Шпика поймали. Думал, пилотка его спасет…
В толпе демонстрантов Космас увидел парня в партизанской пилотке.
— Сними, не для твоей головы, — сказал высокий студент в очках и сорвал с него пилотку. — Это вещь почетная, не каждый ее может напяливать…
— Вон его! — кричали демонстранты. — Вон его из колонны!
— Погодите! Погодите! — Высокий студент засунул руку в карман задержанного и вынул револьвер. — Выгнать мало! Это рыбка не простая!
Он захватил с собой еще двух демонстрантов и повел, шпика к тротуару.
— Внимание! Шпик! — крикнул в рупор сосед Космаса. Но его голос потонул, заглушенный громкоговорителем.
— Внимание! — разнесся по всей улице могучий бас. — На перекрестке Университетской и Кораиса пойман шпик. Имейте в виду — он среди нас не один. Если вы обнаружите шпика, выведите его из колонны и сдайте представителям народной милиции. Рукоприкладство запрещается. В крайнем случае допустимо умеренное количество оплеух!
Как ни громок был бас, его покрыли шквал хохота и возгласы одобрения.
Под колоннадой университета танцевали. Вдруг сквозь громкую музыку и песни донеслись сильные взрывы. Песни умолкли, воцарилась тишина, ее разорвали новые взрывы и крики. Улица помрачнела; суровая и хмурая, она сразу напомнила о времени оккупации…
— В чем дело? Что случилось?
Неподалеку от окон гостиницы «Национальная» террористы бросили в народ гранаты. За пеленой дыма на опустевшем асфальте виднелись одинокие фигуры: кто-то бежал, Кто-то падал.
— К оружию! — кричала взволнованная толпа. — Смерть убийцам!
Одни уносили раненых, другие побежали в комендатуру ЭЛАС. Молодежь с револьверами окружила гостиницу и стягивала кольцо. Демонстранты потрясали кулаками и требовали, чтобы в город вызвали части ЭЛАС.
Наконец громкоговоритель объявил, что выступит представитель ЭАМ. Н*арод затих. Представитель вышел на балкон соседнего дома и призвал граждан проявить хладнокровие и выдержку. Нельзя поддаваться на провокации, они могут вызвать кровопролитие, они могут привести к гражданской войне…
На асфальте под окнами гостиницы лежали раненые. Среди них Космас увидел парня с рупором. Окна гостиницы были закрыты. Демонстранты грозили кулаками и требовали мщения. Громкоговоритель, установленный на балконе, все еще призывал их к хладнокровию. Со стороны Омонии загудели машины «скорой помощи», они приехали подобрать жертвы.
II
С переездом в Афины они наконец обрели семейный очаг. Все трое поселились в Колонне, в домике чудесной тетушки Ольги. Однако все вместе собирались они очень редко. Космас день и ночь бегал по Афинам и Пирею, разыскивая материал для газеты. Янна теми же маршрутами ходила по делам женских организаций. Спирос пропадал в редакции. Как-то раз в коридоре Центрального комитета ЭАМ к Космасу подошла незнакомая девушка и справилась о здоровье Янны.
— Спасибо, — ответил Космас, — она вполне здорова.
— Я очень рада, что все обошлось…
Сломя голову помчался Космас домой. Янна лежала в жару.
— Как ты себя чувствуешь?
Янна не ответила, а минуту спустя тихо запела партизанскую песню. Она бредила. Врач, которого привела тетушка Ольга, нашел тяжелую форму воспаления легких. Он прописал кучу лекарств и калорийное питание — молоко, масло, яйца. Болезнь могла повлиять на беременность. Так начались отцовские заботы Космаса.
Янна дрожала под тремя одеялами, бледная, с полузакрытыми, безжизненными, отчужденными глазами. Неутомимая тетушка Ольга за руку отводила Космаса от постели.
— Ты не бойся, мы, женщины, живучие. Сходи-ка лучше на рынок…
Только два дня Космас смог посвятить больной Янне, На третий день за ним прислали из редакции.
— Иди, иди, все будет в порядке, — успокоила его тетушка Ольга. — Я и одна управлюсь…
И в свои шестьдесят лет она бегала по пустым магазинам и рынкам, где все дорожало, а по ночам дежурила возле постели больной. Единственную двадцатилетнюю дочь тетушки Ольги в мае прошлого года у самых ворот дома убили террористы.
* * *
В Афины прибыло национальное правительство. На площади Конституции оно торжественно объявило свою программу и присягнуло на верность демократии. Вместе с правительством в Афины приехал и генерал Рональд Скоби. Он разместил свой штаб в гостинице «Гранд-Британия». Все чаще на афинских улицах стали появляться английские летчики и танкисты, потом шотландцы — с длинными и худыми, как камышины, ногами. А потом появились и негры. В один из последних октябрьских дней на улице Патисион Космас увидел первого негра. Любопытные афиняне бросились к нему с криками радостного изумления. Негр попятился, схватился за кобуру револьвера, но тут же понял, что ему ничто не грозит. «Wellcome!»{[85]} — закричали афиняне и подбросили черного гостя в воздух.
Газеты приветствовали прибытие в Афины английских солдат. «Отважные дети свободолюбивой Британии, — писала «Свобода», — найдут самый горячий прием у своего союзника, свободолюбивого греческого народа». Правые газеты требовали прибытия новых и новых частей: «Пусть это будут негры, пусть это будут индийцы — нам все равно. Больше солдат, больше танков, больше самолетов! Того, что есть, недостаточно!»
* * *
В редакции Космаса ждал Спирос.
— Беги в министерство юстиции. Сейчас туда понесут петицию о военных преступлениях. Разузнай, на кого министры стряпают дело — на предателей или на нас?
Делегация была многочисленной — знаменитые ученые, политики, деятели культуры. По пути к ним присоединялись прохожие — мужчины, женщины в черном, молодежь с плакатами. На плакатах были начертаны обещания правительства о немедленном и строгом наказании военных преступников. Площадь перед министерством юстиции мгновенно заполнилась.
Делегацию принял товарищ министра.
— Господин министр, к сожалению, болен.
— Однако, — заметил адвокат, глава делегации, — нездоровье не мешает господину министру встречаться и в министерстве и за его пределами с крупными военными преступниками, которых давно пора арестовать…
Адвокат перелистал страницы длинной петиции, но ни разу не заглянул в текст — он знал его наизусть. По сей день арестованы лишь очень немногие военные преступники, да и те, что арестованы и содержатся в тюрьме «Аверов», не испытывают никаких неудобств: тюрьму превратили в роскошную гостиницу. Давно уже министерству передан список офицеров полиции, служивших в гестапо на улице Мерлин, но они все еще на свободе. На свободе и те агенты, которые служили в гестапо на улице Памисоса, 8. На свободе министры оккупационного правительства, а известные спекулянты, сотрудничавшие с фашистами, сотрудничают теперь с английскими торговыми компаниями. Инженеры, добровольно участвовавшие в строительстве немецких стратегических сооружений, сейчас выполняют ту же самую работу для англичан. Террористические шайки вроде Калогерасов открыто орудуют в самом центре Афин…
— Соответствующий законопроект уже подготовлен, — ответил товарищ министра. — Скоро мы представим его на утверждение. Составлен список чрезвычайных прокуроров, которые проследят за ходом следствия и судопроизводства…
— О чем вы говорите, милостивый государь?
Щупленький старичок, член делегации, встрепенулся и выступил вперед. Это был худой, маленький человечек, одетый очень бедно и небрежно. Лысина увеличивала его лоб, и лишь на затылке торчали клочки седых волос. Космас помнил не столько его лицо, иссохшее, изможденное, сколько дрожащий, неуверенный голос. Весной 1942 года этот старичок, профессор университета, пришел во главе делегации и полицейское управление, чтобы вызволить своих арестованных студентов.
— О чем это вы говорите? — спрашивал он, прижимая руки к чахлой груди. — Неужели нужно ждать утверждения закона, чтобы признать предательство достойным осуждения и наказания?
— Правительство, господин профессор, — поклонился ему товарищ министра, — твердо следует по пути выполнения своих обещаний…
— Почему же тогда медлите? Почему у вас военные преступники даже не арестованы, в то время как во Франции и в Бельгии за несколько дней тысячи предателей были осуждены и расстреляны? Почему в Югославии…
Спрашивали члены делегации, спрашивали журналисты — афинские и иностранные. Поднялся шум.
— Господин товарищ министра, — обратился с вопросом корреспондент «Свободной Греции», — не могли бы вы назвать нам имена чрезвычайных прокуроров?
— Список передан для публикации.
— Тем более. Раз он подписан, то никакого секрета уже не представляет! Сообщите нам имена.
Товарищ министра поднял телефонную трубку и вызвал кого-то из высших чиновников.
— Существует ли в министерстве комиссия или другой орган по делам военных преступников? — спросил американский журналист.
Товарищ министра объявил, что при министерстве создан Высший координационный совет.
— Кто в него входит?
— Где этот совет разместился?
— Что он успел сделать?
— Вас много, — сказал товарищ министра, — я не успеваю…
В глубине зала открылась дверь, и вошла большая группа чиновников.
— Теперь вас стало больше, — смеялись журналисты, — мы не успеваем записывать…
— Относительно координационного совета вас мог бы информировать господин Ктенас.
Один из чиновников склонился к товарищу министра и сообщил, что господина Ктенаса в данную минуту в министерстве нет.
— Тогда… — товарищ министра оглядел свою гвардию, — тогда вас информирует господин Кацотакис.
Только теперь Космас увидел среди чиновников судью Кацотакиса. Товарищ министра представил его делегации:
— Господин Кацотакис, вице-председатель Высшего координационного совета по делам военных преступников.
— Не могли бы вы, господин Кацотакис, рассказать нам, какую работу провел совет за истекшее время? — спросил один из журналистов.
— С удовольствием. Наш совет, как вы знаете, еще новорожденный, он создан всего восемнадцать дней назад. Однако за этот период проделана грандиозная подготовительная работа. Необходимая предпосылка для деятельности нашего совета — закон о военных преступниках, и мы ждем его опубликования. В настоящий момент законопроект составляется…
— Составляется? Или составлен? Господин министр сказал, что составлен…
Кацотакис пожал плечами.
— Господину министру виднее…
Корреспонденты снова зашумели:
— Совет ждет закона от правительства, правительство ждет законопроект от совета… Приняты ли какие-нибудь практические меры?
— Мы столкнулись с массой технических сложностей. Пришлось начинать с самого элементарного — с вопроса о помещении: где мы будем собираться, где будем хранить наши бумаги?
— Так у вас нет помещения?
— Даже стульев не было, собирали по одному!
Адвокат, возглавлявший делегацию, возмущенно ахнул:
— Неужели дело стало за этим? Бога ради, что вы говорите! Да если на то пошло, я охотно уступлю вам свою контору! И кресла, и чернильницы, если понадобится!
После адвоката заговорила известная поэтесса:
— Я не знакома с господином Кацотакисом, но господин Ктенас мой сосед. Он владелец великолепного четырёхэтажного дома в центре города. Неужели ему трудно было выделить для нужд совета хоть один этаж, хоть одну комнату?
Едва она кончила, встал Космас:
— У господина Кацотакиса на улице Эврипида есть превосходная, просторнейшая контора, и кресел там предостаточно!
Комедия достигла кульминации, и продолжать ее было бессмысленно. Когда делегаты спускались по лестнице министерства, популярный актер-комик громко сказал кому-то из своих коллег:
— Вот уже сколько лет играю в комедиях, но такого еще не видал!
— А я, брат, состарился на трагических ролях, но никогда мне не было так грустно, как сегодня!
— Поди-ка сюда, дружок! — Один из журналистов взял Космаса под руку и пошел рядом. — Что ты знаешь об этом Кацотакисе?
— Узнаешь, но чуть попозже, — улыбнулся Космас. — Почитай завтра «Свободу».
На следующее утро в «Свободе» вместо передовой статьи была опубликована заметка о судье Кацотакисе: «Мы еще не знакомы с режиссером-постановщиком комедии, но исполнителя одной из главных ролей мы увидели вчера на сцене. Господин Кацотакис — вице-председатель Высшего координационного совета по делам военных преступников. Он же близкий друг предводителя военных преступников и сам без пяти минут министр в первом оккупационном правительстве. Этот господин — военный преступник. Помимо обличающих его симпатий и личных связей, существуют и обличающие действия. Телефонные звонки Кацотакиса к тем господам, которых он теперь будет судить, помогли схватить и расстрелять многих бойцов национального Сопротивления… Правосудие должно выяснить еще одно черное дело: кто выдал гестаповцам семью евреев, скрывавшуюся в доме господина вице-председателя, и что случилось с золотом, которое принадлежало этой семье и таинственно исчезло после ареста? Министр юстиции обязан немедленно арестовать преступника. Теперь, когда мы знаем главных исполнителей комедии, по их следам не трудно будет добраться и до главного режиссера…»
* * *
В субботу вечером вся семья оказалась в сборе. Янна с разрешения врача впервые ненадолго вышла на улицу. Тетушка Ольга приготовила ужин и в соседней таверне купила вина. Они сидели за столом, когда в дверь постучали. Тетушка открыла, и в комнату вбежали пять девушек с цветами. В доме стало светлее от смеха и звонких голосов. Девушки были новыми подругами Янны, они жили в этом квартале; две учились в гимназии, остальные работали на соседней фабрике. Они ухаживали за Янной во время болезни, приносили цветы и фрукты.
— Мы за тобой! — хором выпалили девушки.
Молодежь квартала праздновала сегодня открытие своего клуба. Пошли всей семьей.
Клуб находился поблизости, он занимал первый этаж и несколько комнат второго этажа в просторном, высоком доме. На втором этаже разместились кабинеты молодежной организации, на первом этаже сняли перегородки и устроили грандиозный зал. Он сверкал огнями, праздничными красками и радостными юными лицами.
Сначала была торжественная часть — президиум, речи, поздравления, потом художественная часть, потом бал. Заботливые и искусные руки украсили зал рисунками — фигурами юношей и девушек. Не с оружием, а с орудиями труда. Кирки, плуги, серпы, молоты, книги. «Выполним задачи мирного времени с таким, же энтузиазмом, как мы выполнили наш воинский долг!» — призывал огромный плакат над сценой. И с этого призыва начинали все — ораторы, актеры, выступавшие в скетчах, поэты, читавшие свои стихи. Шумный, неугомонный зал плыл под парусами золотых надежд, жаждущий добра и созидания.
Космас обнаружил, что остался в одиночестве. Янну бережно кружил незнакомый юноша; с грехом пополам поспевал за своей молоденькой партнершей Спирос, а тетушка Ольга, утомленная шумом и гамом, ушла домой.
Через зал пробиралась одна из подруг Янны. Она только что прочитала со сцены хорошее стихотворение. Космас пригласил ее на танец.
— Чье это было стихотворение?
Девушка покраснела.
— Ну, тогда дай его мне, мы напечатаем в «Свободе».
— Так, значит, вы не читали? — огорчилась девушка. — Его напечатало «Молодое поколение».
III
В редакции Космас нашел записку на свое имя. Записка была от Стелиоса, он тоже сумел избавиться от Мила, тоже перебрался в Афины и очень хотел повидать Космаса. Стелиос приглашал его к себе, он снимал комнату на улице Алопеки. Космас зашел к нему в тот же вечер.
— Пока что работаю переводчиком при одном англичанине-полковнике, — рассказывал Стелиос. — Сняли для меня номер в гостинице «Король Георгий». Но ты сам знаешь, я человек мирный. Звон шпор и щелканье каблуков мне не по вкусу. Поэтому в своем номере я редкий гость. Эта квартира устраивает меня гораздо больше. Скоро сбегу от полковника и займусь журналистикой.
Стелиос был увлечен новыми планами. Несколько дней назад в Афинах был проездом друг их семьи, корреспондент газеты «Нью-Йорк тайме». Он направлялся из Каира в Турцию, оттуда собирался в Иран, а потом в Советский Союз. В Афины он рассчитывал вернуться в начале будущего года и оставлял вместо себя Стелиоса.
— Я, конечно, понимаю, что эта затея с журналистикой — прихоть и скоро пройдет, — смеялся Стелиос. — Но пока я еще не остыл. Остались сущие пустяки, формальности. На днях начну новую карьеру.
— И какова твоя программа, Стелиос?
— Журналистская? Буду защищать вас. Если побежденные мужественны и чисты духом, мои симпатии на их стороне…
— Побежденные?
— Не обижайся. Ты знаешь мои дружеские чувства к вам, но они дела не изменят.
— Что ты хочешь сказать? Почему ты считаешь нас побежденными?
— Я хочу сказать, что вы останетесь побежденными, — поправился Стелиос. — Слишком уж вы большие энтузиасты… Энтузиазм штука опасная, он отвлекает внимание от практических проблем. Вот ответь мне: рассчитываете вы на конфликт с англичанами?
— Разве я могу отвечать тебе за всех! Что бы я ни ответил, это будет пустая, безответственная болтовня. Но лично мне кажется, что если бы такому конфликту суждено было возникнуть, он уже возник бы…
— Сейчас столкновение с англичанами было бы для вас более трудным и рискованным, чем раньше. Так?
— Должно быть, так.
— И, значит, чем дальше, чем больше англичан будет прибывать в Грецию…
Космас остановил его:
— Ты как будто уже не сомневаешься, что этот конфликт непременно возникнет?
— Ты прав… Я уверен, что он возникнет… И не смотри на меня такими глазами. Не думаешь ли ты, что я знаю секреты, которых ты не знаешь? Ничего подобного. Я исхожу из логики вещей. Для меня ясно, что влияние у вас колоссальное и, если события будут развиваться без постороннего вмешательства, победа за вами. Но ясно для меня и то, что англичане этого не допустят. Они улучат момент, удобный для них и неудобный для вас…
— Что бы ни случилось и когда бы ни случилось, побежденными будем не мы… Я как-нибудь зайду за тобой и приглашу на молодежный вечер. Побудешь с нашей молодежью, посмотришь на ее энтузиазм.
Стелиос слушал с улыбкой.
— Вот ты говоришь об энтузиазме, а ведь с него мы и начали наш разговор… Ну ладно, я с удовольствием пойду на ваш вечер, а теперь послушай, какую я принес для тебя новость. Здесь сейчас находится твой старый друг, подполковник Стивене. Хочешь его видеть?
— Ну конечно! Где он? Как нам встретиться?
— Нет ничего легче. Приходи ко мне в гостиницу, он все время там… Кстати, справлялся о тебе и не больно был рад, когда узнал, что ты с левыми.
* * *
Встреча со Стивенсом произошла в ресторане гостиницы. Англичанин был очень любезен, он не забыл услугу, которую оказал ему Космас.
— Первую весточку от тебя принес мне Квейль, и с тех пор я уже не упускал случая справиться…
— Спасибо. Я рад был узнать, что ты благополучно добрался до Каира. И не сомневался, что мы увидимся, только, по правде говоря, надеялся, что это случится раньше, в горах…
Стивене улыбнулся.
— Если бы ты остался в Афинах, мы бы увиделись. Сюда я приезжал не раз.
Англичанин возмужал, поправился и в военной форме стал совершенно неузнаваемым. Зато по-гречески он говорил все так же — правильно и в то же время не по-гречески.
— Очень, очень приятно снова с тобой повидаться. — Стивене старался держаться как можно сердечнее. — О твоих военных делах я знаю… Я очень уважаю ваших партизан, они прекрасно воевали и выиграли войну. Ну, а как ты живешь теперь? Чем занимаешься?
— Журналистикой. Пишу статьи, репортажи, фельетоны. Тоже, знаешь, война…
Стивене попросил принести коньяк.
— Давай выпьем за твое здоровье! Я ведь не забыл, что без спросу выпил у тебя бутылку вина…
Воспоминание об этой бутылке и о других грустных и смешных случаях того времени, когда Стивене скрывался у Космаса, а также крепкий коньяк развеяли вежливую сдержанность первых минут.
— Ну-ну! — Стивене весело похлопал Космаса по плечу. — Все будет хорошо, а у нас останутся дорогие сердцу воспоминания. Я люблю греков, одно мне только не нравится — зачем ты снова говоришь о войне?.. Я уже сказал тебе, что восхищаюсь героизмом ваших партизан, но война уже прошла! А вы, к сожалению, занимаетесь политикой и ущемляете как интересы Греции, так и свои собственные. Сами ломаете то, что построили!
Космас пристально посмотрел ему в глаза.
— Это ты сейчас занимаешься политикой. Я и не подозревал, что ты дипломат…
— Ничего подобного, — запротестовал Стивене, — я говорю как солдат — и только. В политику я сам не вмешиваюсь и друзьям не советую. Я советую им делать свое дело и блюсти собственные интересы. В мирное время они — главное. Только на войне мы отдаем предпочтение интересам общества и, защищая их, жертвуем собой.
Логика Стивенса рассмешила Космаса. — А что будет с интересами общества в мирное время?
— Это уже политика, и на это существуют политики! Вчера я говорил с одним из ваших левых, он толковал мне то же, что и ты. А зачем вам все это нужно, не могу понять! Сражались вы мужественно, Греция обрела авторитет и славу, пришла пора пожинать плоды борьбы, а вы все дело портите. Разделились на два лагеря, половину греков объявили предателями…
Стивене остановился, налил коньяку себе и Космасу и с улыбкой спросил:
— А в самом деле, когда вы собираетесь устроить переворот и свести с ними счеты?
— Подождем, пока вы стянете сюда побольше танков.
— А! Браво! — громко рассмеялся Стивене. — Прав был Квейль, когда говорил, что ты еще зеленый, но крепкий орешек!
— И ты решил попробовать?
— Да, каюсь! Я, конечно, пошутил…
— Тогда позволь и мне пошутить: когда вы собираетесь спровоцировать этот переворот?
Стивене засмеялся еще громче.
— Это шутки, и не больше. Я лично убежден, что все уладится. К счастью, обе стороны проявляют благоразумие и правильно оценивают обстановку. Вот если бы еще устранить ненужные обострения… Меня как-то очень задевает ваше воинственное настроение. Ваши нападки часто несправедливы.
— Например?
— Пожалуйста! Ваша газета опубликовала оскорбительную статью о судье Кацотакисе, а между тем это очень достойный, уважаемый человек… высокое должностное лицо. Он очень обижен и расстроен.
— А знаешь, как вел себя этот господин во время оккупации?
— Что было, то прошло. Войны больше нет…
— И критерии ее устарели? — закончил за него Космас. — Но скажи, если, не дай бог, ты снова попадешь в беду, решишься ли ты искать убежища у достойнейшего господина, о котором мы говорим?
— Безусловно, нет! — не замедлил с ответом Стивене. — Я предпочту снова прийти к тебе!
Вдруг Стивене приподнялся и, попросив у Космаса прощения, поспешил к выходу. Шум в зале затих. Космас тоже обернулся к двери. Уверенной походкой по ресторану шла Кити. Она выглядела еще выше и стройнее, чем раньше. Узенькое бежевое платье при каждом движении подчеркивало ее совершенные, уже зрелые формы. Казалось, она была создана по рецепту французского мудреца, который советовал художникам изображать женщину как существо, готовое к творению, с округлыми бедрами, ибо там таится первое обиталище жизни.
— Здравствуй, Космас! — весело сказала Кити, бросая прямо на бокалы свою сумочку и перчатки. — Стелиос сказал, что ты здесь, и я зашла повидать тебя. Я узнала, что ты меня ненавидишь!
— Это тоже сказал Стелиос? Едва ли…
— Нет. Мне сказали, что ты написал статью о нашей семье, требуешь, чтобы на меня надели наручники и отправили в те места, где нет солнца и…
Кити умолкла и взглянула на Стивенса. Он встал.
— Да, Стив, прости, я хотела поговорить с Космасом…
Стивене отошел.
— …и мужчин! — закончила свою фразу Кити. — Это правда?
— Нет, Кити! Неправда! — засмеялся Космас. — Кто это сочинил? По правде говоря, я думал, что ты уехала в Германию!
— О! — Кити слегка покраснела. — Я знаю, что думаешь обо мне и ты, и кое-кто другой. Мой двоюродный брат, такой же безрассудный, как ты, говорит, что вы построите народную демократию и тогда меня перевоспитают. Вот еще новости! Ты тоже так считаешь?
— Я считаю, что эту приятную обязанность возьмет на себя двоюродный брат.
— Вообще-то говоря… Послушай, Космас, я ничего против вас не имею. Я хочу только одного — чтобы мой будущий муж не говорил политическими лозунгами и не читал мне проповедей, словно поп. В остальном я с вами согласна, в том числе и с тем, что ты написал про отца. Я ему говорила: «Раз проштрафился — сиди и помалкивай…» Не послушал… Теперь пусть сам и расхлебывает…
— А как поживает Джери?
— Пишет, что скоро приедет, он служит в каких-то частях, которые на английских кораблях высадились в Патрах.
Кити замолчала и пристально взглянула на Космаса большими, яркими, словно черные прожектора, очами. Она разглядывала его беззастенчиво и вызывающе, еще беззастенчивее, чем раньше.
В дверях показался Стелиос, и Космас облегченно вздохнул.
Кити взяла со столика сумочку и перчатки.
— Мне сказали, что ты женился. Мне жаль твою жену. Или она тоже занимается политикой?.. Тогда мне жаль тебя…
Высоко держа голову, быстрой, чуть раскачивающейся походкой она вышла из зала, провожаемая Стивенсом, приглушенными голосами и взглядами всех мужчин.
— Она сказала тебе, что уезжает в Англию? — спросил Стелиос, когда они с Космасом спускались по лестнице. — Стивене женится на ней, у них давняя связь.
— Так вот оно что! Значит, его интерес к Кацотакису личного свойства?
— Не хочешь ли еще один сюрприз? Обрати внимание на того, кто входит…
Мужчина в штатском, появившийся в дверях, почти бегом поднялся по лестнице, и Космас на секунду увидел его профиль, а потом толстую, красную шею.
— Уж так и быть, помогу тебе. Помнишь таинственных снабженцев Мила на Астрасе?
— Костас?!
— И Димитрос тоже здесь… Одним словом, они свили тут настоящее осиное гнездо, и я хочу поскорей унести ноги. Завтра будут оформлены мои новые бумаги, Послезавтра вместе с зарубежными журналистами пойдем к премьер-министру… Звони…
— Непременно. На днях открытие клуба в Кипсели, Пойдешь?
— Созвонимся…
* * *
Космас не успел сдержать свое обещание. В тот же вечер с группой афинских корреспондентов он уехал в Пелопоннес. За несколько минут до отъезда Космас позвонил Стелиосу.
— Скоро вернусь, и тогда непременно сходим на вечер!
— Хорошо! Буду ждать! — добродушно согласился Стелиос. — Счастливого пути!
IV
Поездка по разоренному Пелопоннесу затянулась сверх планов и ожиданий. Дороги были разворочены, трофейные машины застревали, вынуждая пассажиров высаживаться и вытаскивать их из грязи или подталкивать на трудном подъеме. Стоял ноябрь, шли неумолимые дожди, и каждый второй мост оказывался взорванным. Первой ехала машина с единственной мигающей фарой по прозвищу «Полифем», за «Полифемом» тащился «Эдип» — безглазый тиран с разболтанными колесами. Дважды — в Коринфе и на головокружительном спуске в Аркадии — они налетали на грузовик. В темноте не разобрали, отчего произошло столкновение и почему они уцелели. «Третьего не миновать!» — сказал про себя каждый и всю дорогу ждал аварии.
Несмотря на это, путешествие было замечательным. Вокруг простиралась растерзанная, но свободная земля, из руин поднималась новая жизнь. И хотя развалившиеся сиденья — на «Эдипе» от них уцелели одни пружины — доставляли пассажирам мучения, журналисты чувствовали себя превосходно. После горячки Афин они радовались этому путешествию, как после жестокой бури — попутному ветру. Космас радовался вдвойне — он ехал на родину.
В Триполи, получив из Афин первые газеты со своими корреспонденциями, они расстались. «Полифем», обладавший одним глазом и крепким мотором, направлялся на ратный подвиг в Спарту — ему предстояло по горной дороге подняться на Тайгет и оттуда двинуться на Каламату. Космас со второй группой, подпирая «Эдипа», взял курс на Алонистану.
Много дней карабкались они по холмам Пелопоннеса. В больших деревнях останавливались, участвовали в митингах и собраниях. В каждой деревне они ходили в театр. На подмостках, сооруженных в школах и тавернах, были уже сыграны все пьесы, присланные из Афин, и театры жаждали новой пищи. Кое-кто из учителей и грамотных эпонитов сочинял сам и с грехом пополам пополнял репертуар самодеятельных трупп. Корреспонденты привезли несколько новых вещей — короткие скетчи, драмы, комедии. Их принимали, как голодающие хлеб.
Ясным, почти весенним утром они наконец оставили позади горы и спустились в Илийскую долину… Теперь «Эдип» двигался самостоятельно, он легко скользил по гладкой дороге, а если кое-где и встречался небольшой холмик, то «Эдип» не задерживался, он взлетал на него с разгону. Пассажиры освободились от обязанностей толкачей. Равнина ширилась, сначала волнистая, потом гладкая, как стекло; она, точно море, переливалась под солнцем. Особой красотой она сейчас похвастаться не могла. Влажная земля отдыхала, покрытая дымкой испарений. Виноградники были голые, торчали одни только сухие, тощие стебли. Свежевспаханные поля впитывали солнечные лучи и молчали. Но и этот пейзаж не был для Космаса бедным. Он знал равнину в бурном цветении весны и в спокойной зрелости лета, и воображение дополняло то, что видел глаз. Он знал, что чуть подальше, среди оливковых плантаций и виноградников, спрятался маленький городок — тысяч пятнадцать жителей, низенькие домики, грязные в зимнюю пору улицы, бедные окраины, — ничего особенного. Но то был его родной город, и даже если тебе только двадцать лет, велико твое волнение, когда после скитаний ты видишь знакомые очертания твоей маленькой родины… Из-за кипарисов и эвкалиптов выглядывают колокольня, еле различимые дома и выше всего — ветряная мельница, которая по-прежнему машет своими белыми и черными крыльями.
* * *
«Эдип» нагрянул в городок около полудня, внезапно, словно пират. Толпа мальчишек с гиканьем неслась за ним по пятам. Даже взрослые не удержались от соблазна, вышли из домов и магазинов и окружили машину. Космас предвидел, что это случится. Он знал, что его земляки — люди подвижные и любопытные и не пропустят ни машину, ни человека, пока не узнают всю его подноготную. Вот и сейчас они мгновенно собрались вокруг жалкого «Эдипа», который сразу же попал под град насмешек и колких шуток. К счастью, кто-то из молодежи узнал Космаса, и внимание толпы перешло с машины на пассажиров.
В жизни маленького городка главную роль играли молодежь и изюм. Заботы об общественных нуждах — о восстановлении разрушенных мостов и дорог, о школах, о крове для погорельцев, о воскресных вечерах на площади или в кино, — эти и другие заботы были вверены деятельной молодежи, и молодежь справлялась с ними, питаясь горсткой изюма и безграничным энтузиазмом. В одном из самых красивых зданий в центре города открыли клуб. Двери его и днем, и ночью были распахнуты настежь, благо ключи все равно пропали. Секретарь молодежного совета, способный и энергичный парень, друг и одноклассник Космаса, спал в кабинете за фанерной перегородкой. Там же стояли кровати остальных членов совета. Космас застал их всех во время обеда. Ребята сидели на кроватях, жевали изюм и спорили с директором театра, который требовал освободить его от чистки дорог, поскольку ему нужно провести последнюю репетицию перед завтрашней премьерой.
Всех этих ребят Космас знал. Со многими он вместе учился, со многими дружил. Но были здесь и его бывшие враги, с которыми он не раз вступал врукопашную. Встреча с ними оказалась особенно сердечной. Один из бывших врагов был единственным сыном домовладельца и торговца тканями.
— И Андреас тоже здесь? — обрадовался Космас.
— Андреас у нас активист, — рассказывал секретарь. — Отец грозился от него отречься, так он сам взял и отрекся первый. Вот его кровать…
За два с половиной дня, проведенных в родном городке, у Космаса было немало таких встреч, и не только с молодежью. По самоотверженной юности равняли свой шаг и люди старшего поколения. Вечером, на празднике, в освещенном керосиновыми лампами клубе, Космас увидел директора гимназии. В годы своей молодости он был одним из первых образованных людей в их захудалой провинции, которая страдала как от проливных дождей и виноградных вредителей, так и от страшного невежества. Учитель создал просветительное общество молодежи, а когда женился, попытался организовать женский кружок. Он мечтал возродить спортивные традиции — недаром их городок находился между Олимпией и Элидой. На свои средства опубликовал он две популярные брошюры о всеми забытой истории края, о возделывании винограда и борьбе с вредителями. Он был неутомим и настойчив. Но его упорство в конце концов не устояло перед безразличием соотечественников и повышенным интересом к его особе со стороны местных политиканов. Учителя переводили с места на место. Первая его дочь родилась в Халкидики, а вторая — на Эвбее. Третья дочь родилась в родном городке. Ученики часто слышали, как он, покачивая поседевшей головой, медленно и скорбно повторял девиз всех отчаявшихся: «О тщетная добродетель!» И все же перед войной учитель предпринял новую попытку и опубликовал брошюру о пользе кооперации. Его перевели в Превезу. Тогда-то он и произнес горькие слова, приговор своему родному краю: «Боже мой, неужели этот прекрасный край способен поставлять только изюм и мошенников?»
В зале было шумно и многолюдно, но старик сразу узнал Космаса.
— А! И ты здесь! Знаю, знаю… Мне рассказали… Я горжусь вами, как-никак вы мои духовные дети! Занимаешься журналистикой? Молодец! Заходи к нам в гимназию. С первого октября у нас регулярные занятия. Ну конечно, все педагоги добровольцы и довольствуются изюмом… Что поделаешь!
— К счастью, в нашем крае есть изюм! — сказал Космас.
Директор засмеялся и дружески взял Космаса под руку.
— Это очень ценный продукт, а мы, неблагодарные, еще не научились как следует его производит. Теперь, я думаю, научимся. Второй же продукт, к сожалению изобиловавший в нашей местности, нужно истребить, выкорчевать с корнем. Я полагаю, теперь мы и это сумеем. Ты понимаешь, что я имею в виду?..
Его глаза в глубоких гнездах морщинок горели спокойным, уверенным огнем.
* * *
На другой день после обеда Космас выкроил время, чтобы забежать в свой покинутый дом. Ему сказали, что сейчас там живет семья погорельцев из соседней деревни. Что ж, пусть живут! Он им не помешает. Он забежит на несколько минут, посмотрит и уйдет, Он должен это сделать.
Издалека Космас увидел свой двор, чистый, прибранный. Умело подрезанные тутовые деревья и виноградник. Под навесом у печи куча дров и сухих виноградных стеблей для растопки. Ухоженный огород, клумбы — все как и раньше. Посредине двора, где во время дождей всегда стояла большая лужа, по которой он когда-то пускал бумажные кораблики, плескалась с ведерком маленькая девочка. Космас наклонился и потрепал ее по головке.
— Как тебя зовут, малышка?
Девочка смело взглянула на него голубыми глазенками.
— Хитина.
— А, так, значит, ты Христина! А чья ты? Как зовут твою маму?
— Хитина.
Космас взял ее за ручонку и отвел подальше от лужи. — А кто твой папа?
— Хитина, — снова пролепетала девочка. Дверь на террасе открылась, и вышла женщина.
— Здравствуйте, — сказал Космас.
Женщина быстро спустилась по лестнице. Увидев, что она бежит, девочка заплакала. Женщина взяла ее на руки.
— Здравствуйте, — сказала она Космасу. — Вы… я знаю… Нам сказали, что вы приехали…
Космас видел, что она обеспокоена. Ее руки прижимали девочку к груди. Девочка уже не плакала и смотрела на Космаса смело и дружелюбно, как и вначале.
— Я здесь проездом, — успокоил женщину Космас, — вы не волнуйтесь…
В комнатах было чисто. Полы застланы дерюжками. Мебель чужая — громоздкая, деревенская. На кроватях пестрые домотканые покрывала. Здесь уже не было той опрятной и светлой простоты, в которой содержала дом мать. Зато на кухне все осталось по-прежнему. В очаге горел тихий огонь, на старом таганке стояла медная кастрюля. Рядом ящик с дровами. Умывальник, полка с посудой. Как и раньше, с потолка свисают связки лука и чеснока. На подставке банки с кофе и сахаром, деревянный коробок для спичек. В углу стол, заставленный бутылками с маслом, соусами, уксусом, глиняный горшок для маслин. На стене висят сито, терка, жаровня для кофейных зерен. На окне горшки с цветами, любимая гвоздика матери. За всем этим вставали прожитые здесь годы, месяцы, недели, улыбки, слезы — много хороших и горьких минут в жизни бедной, но очень дружной и любящей семьи, которую так быстро разбила смерть… И в столовой все было по-прежнему: стол, несколько стульев, вешалка на стене — туда он вешал свою гимназическую фуражку, умывальник — там надлежало мыть руки перед едой. А над умывальником еще висела старая реклама: розовощекий малыш уплетал сгущенное молоко и желал всем приятного аппетита. Космас снял картинку и на обратной стороне нашел надпись, сделанную его рукой: «Сегодня, в понедельник первого сентября 1937 года, я первый раз пошел в гимназию…»
— Все остальные вещи и машинку вашей матери я перенесла в маленькую комнату, — сказала женщина. — Она на замке, и никто туда не входит, только я, когда убираю.
В этой комнате умер отец. Здесь еще сохранился аромат их дома — пахло орехами, миндалем, айвой и душистым мылом, которое мать прятала в белье. Хозяйка раздвинула шторы, в комнате стало светло. Вещи открыли глаза и смотрели на Космаса. Шкаф с мутным зеркалом, буфет с чайным сервизом, вазочки, бутылка из-под коньяка в форме человеческой руки, на стенах фотографии. Отец и мать в день свадьбы — молодые, торжественные, радостные и не подозревавшие о том, что будет дальше. Космас-малыш в разных позах. Дедушки и бабушки с обеих сторон, красивые и строгие. В золотой рамке почетный диплом участника балканских войн, рядом в такой же раме медные медали — это слава и реликвии отца.
Космас остался в комнате один, и ему казалось, что здесь нечем дышать. Старая, никому не нужная мебель напоминала о людях, которые пользовались ею, а потом умерли. Следом за ними умерла и мебель, и комнатушка превратилась в мрачную могилу. Космас испытывал угрызения совести. Кто, как не он, должен был вдохнуть жизнь в оставленное ему бедное наследство? Столь же знакомые вещи на кухне не пробудили в нем этого щемящего чувства. Там эти вещи жили; они, как и раньше, служили людям, угасал и загорался в очаге огонь, отцветала и снова зацветала гвоздика матери. А здесь, в этой каморке, воспоминания прятались в массивный шкаф и в торжественные рамки портретов, здесь все застыло и умерло, и воздух был тяжелый, как на кладбище…
Дверь заскрипела и тихонько открылась. Из-за нее робко показалась белокурая головка. Пораженная, любопытная — ее никогда сюда не пускали, — смотрела девочка на незнакомые предметы: на фотографии, на стеклянные безделушки, на свое отражение в мутном зеркале. Космас распахнул окно и накинул крючок. Стало свободнее и легче. Девочка, улыбаясь, забарабанила пальцами по зеркалу.
Вошла хозяйка и взяла девочку на руки.
— Оставьте ее, — попросил Космас, — пусть она здесь играет.
— Боюсь, как бы чего не разбила…
— Не разобьет. Христина хорошая девочка. Правда, Христина?
— Да, — согласилась Христина и дважды стукнула босой ножкой туда, откуда ее стукнула другая девочка в зеркале.
Они вернулись в столовую.
— Я сварила кофе, — пригласила к столу хозяйка.
На столе стояли чашечки с кофе и розетки с вареньем. Космас заметил, что женщина уже успокоилась и весело хлопотала по хозяйству. Она была еще молода, но уже увяла, как увядают после родов большинство бедных женщин в этих краях. Худая, изможденная, она смотрела на Космаса глазами, полными благодарности, и смущалась оттого/что не может принять его, как хотела бы. Космас спросил ее о семье. Семья — вот эта девочка да мальчик одиннадцати лет. Мужа в прошлом году убили немцы. Дом в деревне сожгли. Остался клочок земли. Сынишка столуется в молодежной организации. Сама она ходит по домам — стирает, метет улицу. Надеется получить пенсию за мужа. Англичане три раза раздавали продукты — муку, мясные консервы, сою, а также немного белья. Потом перестали. Позавчера сбросили листовки.
Она показала одну листовку. В центре бедная женщина — Греция. Большая рука с эмблемой английского знамени протягивает мешок с продуктами. Но меч разделяет их и не позволяет женщине взять подарок. Это партизаны.
— Живите здесь сколько хотите, — сказал Космас на прощание.
* * *
Во дворе Космаса ждал мальчишка. Он молча протянул руку, и Космас увидел записку.
— От Макиса, — застенчиво сказал мальчик. Космас развернул листок и прочитал: «Догадываюсь, что тебе наговорили про меня твои друзья, но я по-прежнему верю в твой справедливый характер и надеюсь, что наша дружба не может так легко угаснуть. Если ты тоже так думаешь, зайди ко мне. Я очень хочу тебя видеть.
Макис».
— Он болен? — спросил Космас.
— Нет! — Мальчик покраснел.
— А тогда почему… — Космас снова взглянул на записку: «Догадываюсь, что тебе наговорили про меня твои друзья…»
Когда в первый же вечер в клубе Космас спросил о Макисе у их общего друга, тот только покачал головой: «А! Совсем раскис парень… Сначала был с нами, горел энтузиазмом, рвался к подвигам, но скоро разочаровался. Пришел и со свойственной ему искренностью заявил: «Больше не могу, тяжело». Мы не удивились. Мы знали Макиса. Потом прошел слух, что он зачастил в другие организации. Я как-то встретил его и спросил: «А у них не тяжело?» — «Нет, — говорит, — там вообще ничего не делают, разве что устраивают литературные вечера…» А теперь он за то, чтобы англичане снова привезли нам короля и сделали Грецию великой державой…» Монархические настроения у Макиса были для Космаса новостью. И отец его, и все прочие родственники, люди богатые и влиятельные, слыли ярыми республиканцами, а дядя Макиса, генерал, близкий друг Венизелоса, не раз играл видную роль в антимонархических переворотах. Космас с Макисом частенько перелистывали его известную книгу мемуаров «История демократического движения в Греции». В этой книге генерал раскрывал интересные подробности исторических событий, пересказывал свои беседы с видными политическими деятелями, приводил фотокопии писем, которые получал от Венизелоса, Папанастасиу, Кафантариса, своего лучшего друга Михалокопулоса и других борцов за республику в Греции. В доме у Макиса висела фотография генерала в величественном шлеме и парадном мундире, при орденах и шпаге. Макис получил ее в подарок с дарственной надписью самого генерала. Умер генерал в годы диктатуры. Макис боготворил своего дядю, хотя и не слишком пылко. Умеренность всегда и во всем являлась определяющей чертой в его характере. Строгое воспитание в благопристойной, состоятельной семье ограждало его от дурных влияний, круг друзей был очень узок. Если родители считали, что с этим мальчиком Макису лучше не дружить, он не дружил, если они запрещали ему и вовсе разговаривать с ним, он не разговаривал. С Космасом они дружили с раннего детства.
— Ну ладно, пойдем, — сказал Космас мальчику. Это был младший брат Макиса. — А почему Макис не захотел встретиться где-нибудь в другом месте?
— Он никуда не ходит. Боится, что его схватят…
— Кто?
— Ваши, — смущенно буркнул мальчик.
— А дома его не могут схватить?
— А Макис и не сидит дома. Он только сейчас дома, тебя ждет…
— Значит, мы теперь вроде заговорщиков? — засмеялся Космас. — Ну ладно! Посмотрим, как поживает Макис… А тебя-то как зовут?
— Спирос.
— А ты не боишься, что тебя схватят?
— Ни чуточки! — Спирос прыгал рядом с Космасом, подбрасывая ногой встречные камушки. — Мама хочет, чтобы я тоже никуда не ходил, а я позавчера ночью выпрыгнул с балкона.
— И куда ты пошел?
— Ты только молчи, а то мама говорит, что у нее падает сердце… Я пошел в клуб, там был вечер для ребят, и я танцевал с одной девочкой…
— Молодец! Что ж ты Макиса с собой не захватил?
— А я ему сказал! Но он пошел спать в баню, чтоб его не арестовали! Делает, что ему мама говорит. Такая мямля! «Садись!» говорит мама. Садится. «Вставай!» Встает.
Макис встал навстречу Космасу, обнял и поцеловал его. Он был очень растроган.
— Я думал, что ты сам ко мне зайдешь…
— А я думал, что увижу тебя с ребятами. Чего это ты сидишь взаперти?
Вошла его мать, она сердечно поздоровалась с Космасом, нашла, что он ни капельки не изменился (пустой рукав его пиджака она не заметила), сказала, что Макис очень скучал без друга и они часто о нем вспоминали. Теперь Космас вернулся и, конечно, поможет своему другу, который переживает тяжелые, критические минуты жизни… Госпожа Арети не могла удержать слез и поднесла к глазам платочек.
— Ну чем провинился Макис? Что он сделал? Почему его так ненавидят?
Космас попытался ее утешить.
— Ты не знаешь, Космас! Жизнь Макиса висит на волоске!
— Прошу тебя, мама! — Макис осторожно взял ее под руку и повел к двери. — Обещай мне не волноваться!
— Да, да, мой мальчик!
Спирос невозмутимо наблюдал за этой сценой из глубокого кресла и, встретившись глазами с Космасом, лукаво подмигнул…
Буквально через минуту госпожа Арети вернулась вместе со старой служанкой. Они принесли лампы и два подноса, заставленные сладостями, фруктами, напитками. Космас запротестовал, но госпожа Арети сказала, что у Макиса только один и, она надеется, верный друг. Она поставила подносы на стол и вышла, уводя за собой сопротивлявшегося Спироса.
— Я еще увижу тебя, Космас! — крикнул он уже в дверях. — Правда?
— Обязательно, — ответил Космас и обернулся к Макису: — Какой шустрый у тебя братишка. Он мне очень понравился.
— Да, да… И в кого он пошел? Понятия не имею…
— В дядю, конечно! Тоже будет генералом!
— Да, да… Наверно. — Макис наливал в рюмки ликер.
Теперь, когда принесли лампы и полутемная комната была освещена, Космас убедился, что здесь ничего не изменилось. Письменный стол Макиса, книжный шкаф, ковер на полу, на стенках фотографии Макиса. На старом месте висел и генерал. Не изменилась комната, не изменился и Макис — уравновешенный, спокойный, добрый, в элегантном костюме, словно и не было страшных лет бедствия.
— Послушай, Макис, — серьезно заговорил Космас, собираясь повлиять на своего друга, как влиял когда-то, — оставим вино и сладости до другого раза. Скажи-ка мне лучше: что с тобой происходит? Кого ты боишься, кто тебе угрожает? Хоть убей, не понимаю, что тебя пугает. Думаешь, тебя посадят за то, что ты хочешь короля?
— Да провались он пропадом! Ничего подобного я не говорил!
— Ну, а если б и сказал, это не преступление. Если уж ты до того докатился, что желаешь короля, — желай себе на здоровье! Я говорил с ребятами, никто и не думал тебе угрожать…
Дверь открылась, и вошла госпожа Арети.
— Я должна сама объяснить тебе, Космас, насколько серьезно обстоит дело. Макис никого не трогал, он ни во что не вмешивался. И о короле тоже говорил не он, а другие. Пусть они и отвечают! Макис ни в чем не виноват. А Маунас, ты помнишь, он с детства был хулиганом и разбойником, теперь он партизан, ходит с револьвером… Так вот, он сказал своей маленькой сестренке, что своими руками прикончит всех барчуков, в том числе и Макиса. А что ему сделал Макис?..
— Успокойтесь, госпожа Арети. Если даже Маунас так и сказал, то вовсе не значит, что так и сделает.
— Сделает! Сделает! — нервно всхлипнула госпожа Арети и снова достала платочек. — Поговори с ним, Космас, обязательно поговори. Он такой дикарь… Только ты не передавай ему этого, скажи, что мы его любим…
Макис слушал мать с удовлетворением. «Совсем свихнулся парень», — думал Космас, пытаясь уловить в его взгляде хоть какую-то живинку. Но никакой живинки не увидел он на красивом, неподвижном, словно высеченном из мрамора лице с классически правильными чертами и с выражением классической безмятежности.
Другим помнил Макиса Космас. Когда-то они делились сокровенными тайнами беспокойного отрочества, шептались о девочках-одноклассницах, вместе удирали с унылых собраний ЗОН{[86]}, в недозволенный для учеников час ходили в кино… Тогда глаза у него не были такими неподвижными, а мысли неповоротливыми. Тогда у них было много общего.
Когда госпожа Арети оставляла их наедине, Космас пытался растормошить Макиса воспоминаниями о былых проделках. Макис улыбался, но не прежней открытой улыбкой, а одними губами, едва обнажая зубы… Космас заговорил о генерале. Макис даже не оглянулся на его фотографию.
— Да, да, жаль, что дядя умер…
Космас попросил достать книгу его мемуаров. Макис порылся в шкафу, в ящиках стола — куда-то завалилась. Космас встал и распрощался. Госпожа Арети расстроилась, когда услышала, что Космас в городе проездом. Она думала, что он вернулся насовсем.
— А ты не мог бы остаться? Ради нас, ради Макиса?.. Ах, обещай мне по крайней мере поговорить с Маунасом…
Космас шагал по темным улицам и посмеивался над наивным страхом госпожи Арети, над нелепыми угрозами Маунаса. Но Макис?.. Мысли о нем причиняли боль. Много печального видел Космас за этот день — покинутый родной дом, бедную женщину с сиротами, мрачную, как могила, комнату с заброшенными дорогими сердцу вещами. Смотреть на них было тяжело. Но всем — и вещам, и людям — суждено прожить и умереть. С этим можно свыкнуться, примириться. А можно ли примириться с увяданием юности? Можно ли позволить, чтобы она угасла, не вспыхнув благородным пламенем мечты и подвига, умерла на пороге жизни?
* * *
Добравшись до речушки, делившей город надвое, Космас услышал со стороны клуба тревожные, непрерывные автомобильные гудки. Гудел «Эдип». Космас побежал на его зов.
— Что случилось?
— Наконец-то! Мы уже боялись, что уедем без тебя! Через час отправляемся в Патры. Завтра там окружная конференция, только что позвонили… А где ты пропадал? Навещал землячку?
* * *
В Патры они должны были приехать к следующему вечеру. Однако, несмотря на хорошую дорогу, выбившийся из сил «Эдип» все время спотыкался и пятился. Его следовало бросить и пересесть на один из редких попутных грузовиков. Но когда они, вдоволь намучившись, решались на это, подходящего грузовика не попадалось. Когда грузовик появлялся, коварный «Эдип» обретал былую прыть и летел, как стрела. Итак, они прибыли в Патры на день позже, когда конференция уже кончилась. Жители города были взволнованы тревожными новостями из Афин. В редакции «Свободной Ахайи» стоял шум и гвалт — только что пришли свежие афинские газеты. В большой угловой комнате кто-то читал вслух. Космас заглянул туда и услышал короткие, как боевые призывы, фразы: «Кто разрубит гордиев узел?», «Национальное правительство колеблется…», «Разногласия в военном вопросе вступили в критическую фазу». И снова Космас почувствовал беспокойный, лихорадочный пульс афинской жизни, от которого они успели отвыкнуть за время поездки. Увидев на столике номер «Свободы», он пристроился на ближайшем стуле.
«…Генерал Скоби и правительство постановили, чтобы ЭЛАС десятого декабря сдал оружие. Это постановление противоречит соглашениям. В один и тот же день оружие должны сдать все добровольческие военные соединения, а не только ЭЛАС. Вслед за разоружением нужно немедленно приступить к формированию национальной армии с призывом по возрасту. Следует также незамедлительно распустить жандармерию и до десятого декабря провести процессы над главными военными преступниками. Иначе никому не удастся разоружить восьмидесятитысячную армию. Она не позволит, чтобы ее оружие попало в руки ее врагов…»
К Космасу подсел корреспондент «Свободной Греции».
— Читал? — спросил Космас, указывая на статью.
— Читал. Здорово написано.
Рядом кто-то кашлянул.
— Здорово пишем, однако и действовать тоже нужно здорово! — вмешался в разговор бородатый офицер в нахлобученной черной шапке. — А мы позволяем свозить в Афины цольясов. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтоб догадаться, зачем им понадобилась эта сволочь. Дадут пулеметы и бросят против нас. Вчера отправили один корабль, сегодня другой…
Поздно вечером вместе с двумя местными журналистами «Свободной Ахайи» они зашли в таверну. Здесь жарили свежую рыбу и угощали дешевой и густой мавродафни. Они заняли столик в углу и попросили хозяина освободить их от общества веселых девушек заведения. Девушки переключились на моряков, но и моряки прогнали их. Впрочем, вскоре появились пятеро англичан, они составили девушкам компанию.
Журналисты ели рыбу и обсуждали афинские события. Космас и корреспондент «Свободной Греции» на заре собирались в путь, им давали крепкий автомобиль, и к вечеру они надеялись добраться до Афин. Парень из Центрального совета должен был продолжить поездку по деревням.
Англичане за своим столиком пили и кричали все громче. Разговаривать стало невозможно.
— Что они говорят? — спросили журналисты у Космаса.
— Боюсь, что не обойдется без драки. На чем свет стоит ругают моряков.
— За что ругают?
Космас прислушался и разозлился. Англичане кричали, что греческий флот хуже, чем пехота, но и пехота тоже ни к черту не годится. Пусть эти горе-моряки повесят на шею камни и бросятся в море, на съедение рыбкам, а то ишь расселись и сами жрут рыбок…
— Моряки, наверно, не понимают. А то бы не стерпели…
— Слов не понимают, так жесты сами за себя говорят… Наверно, не хотят связываться…
Моряки спокойно ели рыбу, и ни один из них даже не взглянул на англичан, когда на их столик шлепнулась пустая коробка из-под английских сигарет. Они оставили ужин недоеденным, рассчитались с хозяином и ушли под торжествующее улюлюканье англичан.
— Это безобразие! — возмутился Космас. — Тебя гонят из твоего же дома, ты уходишь, да еще делаешь вид, будто ничего не случилось.
— И правильно сделали, что ушли. Не драку же затевать…
В таверну вошли трое партизан, один из англичан встал и показал им рукой на дверь:
— Парти!
— Что он говорит? — Партизаны остановились и смотрели на него с удивлением.
— Парти! Парти! — закричали все англичане вместе и замахали руками.
Хозяин подошел к партизанам и попросил их уйти.
— Уходите, ребята, прошу вас, они хотят, чтобы вы ушли…
— Почему это нам уходить? — заупрямился один из партизан.
— Ладно, пойдем, — уговаривали его остальные. — Найдем другую таверну…
— Никуда я не пойду! — Партизан сел за столик. — Садитесь, чего стоите? Дай нам, хозяин, чего там у тебя есть!
Партизаны сели, пятеро англичан вскочили с мест. Хозяин выбежал из-за стойки, бросился разнимать… Послышался звон разбитой посуды.
Когда на место происшествия прибыл патруль народной милиции и растащил дерущихся, оказалось, что англичане понесли ущерб, не меньший, чем разбитые стаканы, и что один из партизан — известный в Патрах боксер среднего веса.
Кровь была замыта водой и обильной мавродафни, разбитую посуду заменили целой, и англичане настойчиво звали партизан за свой столик — они хотели угостить их вином.
— Ладно, — согласились партизаны, — но и мы вас угостим…
— Я думаю, нам тоже не мешает заказать еще парочку бутылок, — предложил своим товарищам корреспондент «Свободной Греции».
— Конечно! — в один голос поддержали его парни из «Свободной Ахайи», — Выпьем за здоровье боксера!
* * *
В Афины вернулись к вечеру. В тот момент, когда они выходили из машины, с улицы Стадиу донеслось два выстрела.
Они перебежали улицу Эола и возле одного подъезда увидели толпу народа. У входа с автоматом наготове стоял английский солдат. Здесь, в английском агентстве, спрятался майор цольясов. Это он стрелял в двух парней, которые узнали его и пытались задержать. Еще вчера майор сидел в тюрьме «Аверов», а сегодня уже разгуливал на свободе… Толпа требовала выдачи предателя.
Англичане вытащили на балкон пулемет. На улице Стадиу показались два военных грузовика. Молчаливые, угрюмые солдаты с ружьями наперевес выскочили из кузова и двинулись на толпу…
* * *
За окном льет дождь. Янна еще не вернулась. Спирос вертится с боку на бок и зажигает одну сигарету за другой.
— Надо было с самого начала понять, что конфликта можно избежать, если считать его вероятным и готовиться. Мы этого не сделали. Мы заняли другую позицию, мы надеялись предупредить зло уступками и осторожностью, мы избегали осложнений… И вот результат: со дня на день произойдет то, чего мы избегали, и даже худшее, потому что мы абсолютно не подготовлены. Теперь мы говорим и пишем об этом во всех наших газетах, но верим ли мы в это до конца даже теперь? Боюсь, что нет. Скорее всего мы по-прежнему надеемся, что после этих тревожных дней конфликт рассосется и будет изыскано взаимовыгодное решение. Ты знаешь, — голос Спироса прозвучал и весело и вместе с тем грустно, — сегодня один наивный товарищ убеждал меня, что англичане в последнюю минуту пойдут на уступки и согласятся на формирование правительства во главе с нашим представителем…
— Ты думаешь, это исключено?
— Думаю, да…
Янна пришла на рассвете. Она была и в плаще и с зонтиком и все же промокла до нитки. У ног ее мгновенно образовалась лужица. Лицо было горячее и раскрасневшееся.
— Скорее переоденься!
В соседней комнате тетушка Ольга приготовила смену сухого белья. Янна оставила дверь приоткрытой и рассказывала. В переулке возле академии они чуть-чуть не разбились вдребезги. Одна пуля попала в переднее стекло и задела шофера, вторая пуля угодила в мотор. Машина покатилась вниз, прямо на грузовик. Метрах в двух от грузовика раненый шофер сумел повернуть и врезался в железные ворота.
— Кто стрелял?
— Да там был настоящий бой. Патруль ЭЛАС задержал грузовик и проткнул ему шины. Грузовик вез цольясов и оружие на Омонию. Наши перехватили.
— Оружие-то они по крайней мере взяли или снова побежали с протестом в полицию? — спросил Спирос.
Янна вошла к ним в комнату. На ней был широкий халат тетушки Ольги, но даже он не мог скрыть полноты. Судя по приметам женщин, родится мальчик…
— Не знаю, чем там кончилось, — сказала Янна. — Мы бросили машину и отправились пешком. Я очень устала, пойду спать…
Едва за Янной закрылась дверь, Спирос вскочил и начал одеваться. За ним встал и Космас.
— Они готовятся, — говорил Спирос, — а мы что делаем?
— Ну, не спят же наши, в конце концов!
Спирос оглянулся и с удивлением посмотрел на Космаса.
— Ты серьезно? Кто же, по твоему мнению, наши, если не мы с тобой?
V
Однажды после обеда в редакцию «Свободы» заглянул Вардис. Его полк и вся дивизия все еще стояли в Астипалее. У майора был трехдневный отпуск, он приехал навестить семью.
— Я еще позавчера заходил, да не застал. Сегодня уезжаю обратно в Астипалею, спешу на поезд. Даже поговорить не успеем…
— Пойдем, провожу!
По дороге Вардис рассказывал о дивизионных новостях. Впрочем, новостей почти не было. За минувшие два месяца в Астипалее ничего не переменилось.
— И потом, наши новости роли не играют. Вот у вас тут дело серьезное… Можешь ты мне объяснить что-нибудь вразумительно? Мда… По правде говоря, я сомневаюсь в этом мирном исходе. Дай бог, конечно, зачем людям проливать кровь… Но одно мне ясно: весь этот шум о гражданской войне — чепуха, пена. Если будет война, то не с Зервасом — его мы прогоним в два счета — и не с этими подонками, которые остались нам от нацистов. Война будет с англичанами, если, разумеется, будет…
— А ты как считаешь — будет?
— Будет. Как дважды два — четыре. Ты помнишь англичанина у нас при штабе? Капитана?
— Мила? Ну как же, помню!
— Стопроцентный негодяй! Мы еще не знаем, на что способен этот субъект! Однажды ночью заявился ко мне на квартиру, велел разбудить и сообщил, что сию секунду в миссию поступила радиограмма. Будто Генеральный штаб ЭЛАС отдал приказ о моем аресте. Сказал, что дело пахнет гражданской войной и руководство ЭЛАС держит на подозрении всех кадровых офицеров… Кроме меня якобы велено арестовать всех батальонных командиров, потому что они тоже кадровые офицеры. Я, понятно, не поверил и сказал, что радист, наверное, ошибся, что никакая опасность мне не угрожает и покровительства я у него не прошу… На другой день пришел снова, поздоровался, как лучший друг, сказал, что радист действительно ошибся, и опять намекнул, что кадровые офицеры ЭЛАС скоро подвергнутся репрессиям и что англичане всегда готовы прийти мне на помощь. Через неделю он то же самое говорил командиру первого батальона… А вчера я встретил одного знакомого, он служит в Патрах, в двенадцатом полку. С ним тоже беседовали англичане. Так что сам видишь, дело не случайное, они работают с расчетом…
На Ларисском вокзале царило большое оживление, среди пассажиров было много партизан и офицеров ЭЛАС. Одни приезжали в Афины, другие возвращались в свои части. Кроме молоденьких офицеров, напоминавших Леона, одеты все они были бедно — в старые, пестрые, залатанные мундиры.
— Я часто думаю об этих ребятах, — сказал Вардис. — Партизанская война была большой школой и для бойцов, и для офицеров. Школой, в которой ученики и учителя все время менялись местами, потому что у каждого было чему научить другого… И каждый хотел научить другого, это очень важно! Чтобы это понять, надо послужить в армии. Тяжко думать, что придется вернуться к старым армейским нравам и обычаям. Не знаю, понимаешь ли ты меня…
— Понимаю…
— Понимать-то, конечно, понимаешь, но вот почувствовать… Ну ладно. Я хотел сказать, что очень беспокоюсь за этих ребят. Они так мечтали и так верили в свою мечту…
Они замолчали, глядя, как на перроне строился, готовясь к посадке, партизанский взвод. На путях показался поезд.
— Почему ты так говоришь? — спросил Космас. — События нагнали пессимизм?
— Пессимизм? Нет. Я уверен, что армия выполнит всё, что от нее потребуют. Но что от нее потребуют? И потребуют ли что-нибудь вообще? Как военный, я утверждаю, что в наших руках большая сила. Но обстановка сейчас сложнейшая, и мы не знаем, что делать… Я имею в виду не эту дилемму, будет война или нет. В конце концов, военному это знать не обязательно. Но военный обязательно должен знать, что ему делать, если придется воевать. Он должен иметь об этом ясное представление и свести до минимума возможные неожиданности. Ну, а что знаю, скажем, я или наш генерал? Немногим больше, чем любой из этих бойцов. Чего ты улыбаешься? Думаешь, преувеличиваю?
Поезд подошел к платформе, и пассажиры бросились занимать места. Лейтенант, попутчик Вардиса, уже устроился и звал майора к себе.
Вардис протянул Космасу руку.
— Будем надеяться, что все обойдется. Ну, дружище, до скорого свидания!
— Где?
— Дай бог, чтоб в мирных Афинах. Это было бы лучше всего. А там кто знает… Может, снова в Астипалее… Может, на Астрасе…
Они еще раз пожали друг другу руки. Из окон махали пилотками незнакомые партизаны.
— Добрый путь, ребята! До скорой встречи!..
* * *
Космас возвращался той же дорогой. По улице Святого Константина навстречу ему с ревом спускался большой черный лимузин. Из окон торопливые руки выбрасывали пачки белых листовок: «Да здравствует король!», «Коммунисты сбросили маску. Нация в опасности!», «Вернем исконные земли — Софию, Эпир, Сербскую Македонию!»
Космас побежал в редакцию.
— Знаешь новости? — крикнул ему Спирос. — Наши министры покинули правительство. Завтра все Афины выйдут на демонстрацию… Забирай-ка вот это и спускайся в типографию. Нужно напечатать листовки! Спать, конечно, не придется…
В подвале, обливаясь потом, работали наборщики. У входа дежурил патруль. Космас сидел за корректорским столиком и наблюдал за тенями работающих, неутомимо мелькавшими по стенам и низкому потолку. Он вспоминал далекую ночь оккупации. Спирос, Янна, наборщица бабушка Агнула и Космас — четверо подпольщиков, а кругом город, темный, замученный, порабощенный. То же нетерпение, тот же упрямый порыв перед днем большого выступления. И тот же девиз: «Свобода или смерть!» Но сейчас у входа стоят, не таясь, вооруженные часовые, работает электропресс, его трескотня беспрепятственно вылетает на улицу. По городу ходят патрули, существует комендатура ЭЛАС. ЭАМ занимает крупное здание в самом центре Афин, а по всей Греции насчитывается восемьдесят тысяч отважных бойцов — армия, за плечами у которой опыт трехлетней суровой борьбы. Другие теперь времена…
На рассвете Космас поднялся в редакцию. Спирос дремал, уронив голову на бумаги. Едва скрипнула дверь, он встрепенулся.
— Как там дела, Космас? Мне приснилось, что демонстрация уже началась, а у нас всего десять листовок. Может, и в самом деле?
— Приснилось… На самом деле ребята кончают.
— Браво! — Спирос потирал руки, чтобы согреться. — Хорошо бы выпить кофейку, но увы!.. Закуривай!
Он зажег сигарету и глубоко затянулся.
— Небось даже не вздремнул?
— И желания не было. Все идет хорошо, вот только не знаю, как быть с Янной.
— А что с Янной?
— Думаю, что в ее положении нельзя сегодня выходить на улицу.
— Так-то оно так… Но неужели ты всерьез надеешься, что она усидит дома? Вот что я советую: самое мудрое решение — взять ее с собой, по крайней мере с нами, на глазах… Беги-ка ты за ней домой! А?
Космас надел пальто.
На улице его обдало холодным ветром. Космас остановился в дверях, плотнее запахнул полы. Небо над площадью еле заметно светлело.
— Который час? — спросил он у часового, молодого парня в толстой шинели.
— Полпятого.
— А какой сегодня день? Парень улыбнулся.
— Воскресенье. Третье декабря.
Космас угостил его сигаретой, они закурили, и Космас, подгоняемый ветром, зашагал вниз по улице.
VI
«Когда народу угрожает тирания, он должен выбирать — цепи или оружие». Этот гигантский плакат протянулся во всю ширину улицы, его несут в голове колонны.
— Будь проклята Англия! — крикнул седобородый старик.
Его остановили. Подбежали парни, которые годились ему во внуки, и потребовали не оскорблять союзников, чтобы не накликать беды.
— Ах, ребята, ребята! Поверьте старику…
С Пирейской улицы послышались возгласы:
— Долой убийцу Скоби!
Кричали пирейцы. Несколько часов назад, когда в красных облаках над Гиметом вставало воскресное утро и колонны пирейцев направились к Афинам, со стороны Руфа на них, словно поток дегтя, обрушились колониальные войска, они орудовали дубинками и метили в головы. Пирейцы добрались до Афин с синяками на лицах, с окровавленными платками на головах, в разорванной в клочья одежде. Они не хотели слушать никаких уговоров.
«Спокойно! Спокойно!» — убеждали их афиняне. «Спокойно!» — твердил Космас, а сам вспоминал свой спор с Милом на Астрасе. Он тогда говорил Милу, что Греция воевала не для того, чтобы англичане накинули на нее узду, а Мил удивлялся: «Ты думаешь, наша империя вынесла эту жестокую войну, чтобы потерять Средиземноморье? Это совершенно исключено. Лучше всего найти компромиссное решение…» Компромиссное решение-они упорно добивались его, используя любые средства, опираясь на многовековой опыт своей вероломной политики, и в конце концов добились. Соглашения были подписаны, и народ не требовал сегодня ничего, кроме соблюдения этих соглашений.
«А когда-то мы еще раздумывали, пойти ли на них!» — думал Космас.
Подавляя голос рассудка и справедливую ненависть, заставляя себя забыть о горьком опыте истории, о свежих ранах, о разбитых этим утром головах, народ вышел на демонстрацию безоружным. Он требовал соблюдения соглашений.
* * *
На Университетскую вливалась новая колонна демонстрантов из Эксархии. Над колонной возвышалось величественное панно — женщина в черном медленно плыла над толпой, суровая и внушительная, как византийский иконостас. Космас был поглощен этим зрелищем и не понял, что именно к нему обращалась невысокая круглолицая женщина из соседней колонны. Она пробиралась через спрессованные ряды и махала ему рукой:
— Василакис! Василакис!
Женщина была уже совсем близко. Вот она коснулась его пустого рукава…
— О! Простите! Я обозналась!
Она смущенно улыбнулась, повернулась обратно, но снова оглянулась.
— Разве ты не Василакис?
Первой ее узнала Янна:
— Госпожа Афина!
— Они! Ну конечно они! Ох, родные мои! — Она обняла их, взволнованная, растроганная. Потом увидела Спироса: — Ах, и господин Такис тоже здесь! — И огляделась: может быть, есть еще кто-нибудь из знакомых…
— Как поживаете, госпожа Афина?
— Хорошо! Ах, дети мои, как я рада…
Они тоже обрадовались этой встрече. Госпожа Афина была для них хорошей соседкой, очень хорошей, — ведь именно она подняла крик об аресте Космаса и тем самым спасла остальных. Но догадывалась ли она раньше, что за люди ее соседи?
— А как же?! — Госпожа Афина тоже охрипла от крика. — Что в доме у вас была типография, мы, конечно, не знали. Откуда нам это знать? Не буду греха брать на душу — не знали. Но что творится у вас что-то неладное, догадывались… И сыновья, и муж…
Госпожа Афина умолкла и огляделась по сторонам.
— Я здесь, Афина! — послышался сильный бас, и Космас увидел высокого улыбающегося мужчину, мужа госпожи Афины, с которым они тогда так и не познакомились.
Госпожа Афина представила его своим друзьям.
— Я уж и сам вас узнал, — добродушно смеялся ее муж, протягивая им крепкую, мускулистую руку. — Меня зовут Пантелис!
— А меня Космас!.. Это мое настоящее имя, а Василакис…
— И об этом мы тоже подозревали, — лукаво улыбалась госпожа Афина.
— Жаль, не знали мы тогда, что у нас такие славные соседи! А как там наш дом?
— Заходите, обязательно заходите! В вашем доме живет теперь другая семья, но вы прямо к нам…
— Заглядывайте, — радушно приглашал Пантелис.
Госпожа Афина подхватила Янну под руку, и они зашептались, по очереди подставляя друг дружке ухо. Космас уловил, что госпожа Афина интересовалась «месяцем», и, чтобы не мешать им, повернулся к Спиросу. Тот стоял на цыпочках и радостно улыбался.
— Посмотри! Ты только посмотри, что там творится!
Вот и поворот. Еле-еле продвигаясь, подталкивая друг друга, они подходили к площади Конституции. На какое-то мгновение стало свободнее, они облегченно вздохнули. Но впереди, где ожидали ранее подошедшие колонны, люди стояли, тесно прижавшись друг к другу, и новые колонны тоже прижимались к ним, чтобы дать место остальным, которые все прибывали и прибывали. Гул песен, криков и громкоговорителей поднимался к низким облакам и грохотал, как раскаты грома. От одного только взгляда на пенящуюся плакатами площадь кружилась голова. Шум оглушал и ошеломлял.
— Пантелис! — услышал Космас беспокойный голос госпожи Афины.
Пантелис не слышал, его занесло далеко вперед. Госпожа Афина снова окликнула его и стала протискиваться поближе. Космас хотел успокоить ее, но вдруг почувствовал, как Янна повисла на его руке. Она была бледна и еле держалась на ногах. Космас осторожно обнял ее за талию и ощутил ее отяжелевшее тело.
— Давай отведем ее к тротуару, — предложил Спирос, он поддержал Янну с другой стороны.
Они стали пробираться к тротуару, какая-то женщина слегка похлопала Янну по щекам, чтобы привести ее в чувство; демонстранты расступались, давая им дорогу. Они еще ничего не слышали, когда людская волна накатилась на них и еще плотнее сжала ряды. Космас старался устоять против течения и заслонить собой Янну, он оглянулся назад и увидел взметнувшиеся руки госпожи Афины. Потом послышались сдавленные крики, за этими криками привычный слух различил сухой треск пулемета.
— Стреляют! — крикнул Космас Спиросу.
Обернувшись, он столкнулся лбом с каким-то незнакомым мужчиной и увидел вплотную возле своих глаз его белые от ужаса глаза.
Накатила новая волна, она вынесла их на тротуар и с размаху швырнула на стену. Сзади не смолкали крики, на мостовой падали демонстранты; их смутные очертания скользили и наплывали друг на друга.
Снова застрочил пулемет, и первым, кого отчетливо увидел Космас, был белобородый дед — он тоже бежал к стене. В нескольких шагах от тротуара он остановился, упал на колени и, опершись руками, лег на мостовую мягко и бесшумно, словно на кровать. Янна смотрела на него выкатившимися глазами и что-то кричала. Космас закрыл ее глаза рукой. На щеке у Спироса он увидел кровь.
— Да, обожгло, — пробормотал Спирос, ощупывая щеку. — Нужно отходить назад. Здесь они всех нас перестреляют. Назад, не отставайте!
Какой-то юноша, вскарабкавшись на окно, кричал в рупор:
— Смерть предателям!
Космас потянул его за ногу.
— Рупором все равно не убьешь, молодой человек, — сказал Спирос. — Покричи-ка лучше, чтобы отступали назад, но не скопом, постепенно, без паники…
Парень поднял рупор, но его голос потонул в страшном реве — очень низко, над самыми крышами домов, пролетали самолеты. Одна тройка… вторая… третья… Самолеты уносились и возвращались, набирая высоту и падая вниз, прямо на людей. Спускаясь, они оглушали воем сирен, поднимаясь, открывали в воздух бешеный пулеметный огонь. Люди падали на землю, закрывали глаза; голосили женщины, плакали дети — безоружный и беззащитный народ, открытый огню и смерти, море беспомощных существ.
Из-за дворца показались бронемашины, тяжелые танки «Уинстон Черчилль». С высоких башен, мрачные и непроницаемые, смотрели на народ солдаты колониальных войск, невежественные, послушные тирании рабы; стреляя в воздух, они соскакивали с бронемашин, оттаскивали в сторону убитых и раненых и окровавленными руками расчищали путь для тирании…
Бронемашины двигались вниз по улице, мостовая трещала и оседала под тяжелыми гусеницами. Из башенок строчили пулеметы…
* * *
Самолеты кружат над городом, пикируют на улицы и площади; бронемашины бороздят мостовые и разгоняют народ. Главнокомандующий генерал Скоби публикует приказы — в Афинах и Пирее объявлено военное положение, военные трибуналы подвергнут суровому наказанию всех нарушителей порядка. ЭЛАС должен сдать оружие. И население тоже.
На здании, где расположен Центральный комитет ЭАМ, над фигурой бородатого партизана, обозревающего площадь Клауфмона, появился огромный плакат: «Когда народу угрожает тирания, он должен выбирать — цепи или оружие!» Цепи были отвергнуты, оружие еще не появилось.
Поздно вечером Космас зашел в редакцию. У входа в типографию усиленный патруль. Спирос читает коммюнике ЭАМ, которое пойдет в завтрашний номер. «…Мы надеемся, что правительства союзных держав, а также само британское правительство осудят грозящие опасными последствиями, безответственные действия господ Липера и Скоби. Долой правительство военных преступников! Мы требуем немедленно сформировать правительство истинного национального единства — без военных преступников, без предателей, без убийц!..»
— Будь на то моя воля, — сказал один из редакторов, с перевязанной рукой, — ничего этого я бы не давал и выпустил бы газету немедленно с одной только фразой: «Граждане Афин, вся Греция — в бой!» И ни слова больше.
Редактор был стар и дрожал от нервного возбуждения.
— Посмотрим… Еще рано, — говорили другие. — Есть надежда, что после всех этих событий правительство наконец подаст в отставку. Сколько крови у него на совести…
Редактора эти ответы не убедили. Но возражать он не стал. Может быть, потому что сам хотел верить в мирный исход и желал, чтобы его недобрые предчувствия оказались напрасными.
VII
На другой день распространился слух, что правительство ушло в отставку.
Был понедельник, город проснулся без обычного шума и оживления — магазины закрыты; словно деревенские кладбища, пустуют рынки и торговые ряды. По Университетской, где еще не высохла пролитая вчера кровь, идет за катафалками народ. Впереди траурные знамена, девушки несут венки. Сколько часов длится это шествие? Из толпы шлют проклятия убийцам. На плошади Конституции народ падает на колени, поет гимн в честь погибших героев. Воздух тяжкий и струится так же медленно, как скорбная мелодия… Снова появляются самолеты, снова чертят грозные, сердитые круги в спокойном фиалковом небе. На перекрестках ожидают танки «Уинстон Черчилль» и бронемашины. Народ провожает в последний путь вчерашние жертвы — снова мирный, безоружный, не прикрываемый ни самолетами, ни танками, ни пулеметами.
— Не исключено, что редакции придется переселиться, — сказал на обратном пути Спирос. — Нужно быть наготове.
Они уже спустились к Омонии, как вдруг услышали взрывы и пулеметные очереди. На улице Афины они снова увидели повторение вчерашнего: прижимаясь к стенам, по тротуарам бежали согнувшиеся люди, вдогонку им строчили пулеметы и разрывались гранаты. Из гостиниц, где уже третий месяц засели террористы, обстреливали безоружных, возвращавшихся с кладбища афинян.
— Оружие! — кричали на углу. — Смерть убийцам!
* * *
В Центральном комитете ЭАМ шла пресс-конференция для иностранных журналистов.
В переполненном корреспондентами зале вспыхивали и гасли блицы, не смолкали шутки и смех, — все здесь убеждало, что события двух последних дней и двести свежих могил на кладбище не так уж страшны и трагичны, как кажется. Из любого положения можно найти выход, найдут его и теперь. Антифашистская война продолжается, фашизм еще сопротивляется и может преподнести бог знает какие сюрпризы… И разве можно, чтобы в стране-победительнице, между союзниками…
— Именно поэтому, — говорил из президиума мужчина с мягким и добрым лицом. Голос у него тоже был очень мягкий, глубокий, искренний и заметно усталый. — Вы знаете, что именно поэтому мы согласились даже на ливанские условия, мы верили и продолжаем верить в антифашистскую солидарность союзников. Мы глубоко верим в сознательность, в силу и твердость народа. Мы верим…
— До сих пор, — услышал Космас разговор двух английских журналистов, — я думал, что коммунисты фанатичные поклонники войны, теперь я начинаю думать, что они поклонники мира…
— Как бы то ни было, все равно фанатики, — не отрываясь от заметок, засмеялся второй собеседник.
— …Мы хотим обеспечить мир и спокойствие, — продолжает мягкий и тихий голос, — и новую Грецию мы хотим построить мирными средствами. Мы знаем, что наши противники, сотрудничавшие и все еще сотрудничающие с нацистами, провоцируют теперь английских союзников на то, чтобы подавить волю греческого народа. ЭАМ хочет избежать вооруженного столкновения…
— Почему же тогда сегодня утром ваши сторонники кричали на кладбище: «Возмездие! Возмездие!..»? — вызывающе спросил один из англичан.
Зал встретил его вопрос горьким, саркастическим смехом.
— Это было на кладбище, — послышался из президиума другой, строгий голос. — Мы хоронили наших товарищей! Что же, по вашему мнению, мы должны были кричать? Чтобы и нас тоже перестреляли?
Смех в зале стал еще язвительнее, но журналист, задавший вопрос, нисколько не смутился.
— Вы прекрасно знаете, — продолжал объяснять тихий голос, — если бы нами руководило стремление к возмездию, мы давно бы его совершили. ЭАМ имел полную, возможность прийти к власти, но он этого не сделал. Он призывал и призывает все патриотические силы страны к единению.
— Один вопрос! — крикнули из зала.
— Пожалуйста!
— Если будет составлено новое правительство, войдут ли в него представители ЭАМ?
— Мы всеми средствами поддержим правительство, которое возьмется осуществить достигнутые соглашения, настоящее правительство национального единства.
— Верите ли вы, что после вчерашних событий такое правительство может быть сформировано?
На этот вопрос ответили не сразу, судя по выражению лиц, многие члены президиума разделяли скептицизм иностранного журналиста.
— Не следует считать такую возможность нереальной, — последовал наконец ответ. — Нужно надеяться и всемерно содействовать этому, иначе кровопролитие неизбежно… Мы верим, что правительство союзных держав, а также правительство Великобритании подвергнут осуждению вчерашние и сегодняшние действия господ Скоби и Липера…
— Как вы расцениваете сегодняшнее известие об отставке? — Космас узнал голос Стелиоса, он задавал вопрос по-гречески. — Верите ли вы, что правительство действительно ушло в отставку? А вдруг это маневр, рассчитанный на то, чтобы выиграть время и заручиться поддержкой англичан?
— Это выяснится очень скоро, но мы надеемся на первое, мы надеемся, что эти люди, хоть и поздно, все же осознают свою тяжелую вину и ответственность. Пусть убийцы уйдут! Хватит крови!
— Спасибо!
Журналисты поднялись со своих мест.
— Напишите правду в своих газетах! — послышался суровый бас из глубины президиума. — Греческий народ рассчитывает на поддержку зарубежной прессы. Он хочет мира и спокойствия. Политическая борьба мирными средствами — вот наш лозунг. Мы не хотим кровопролития, которое пытаются нам навязать!..
Космас подождал Стелиоса у дверей.
— Мы только что говорили о тебе, — обрадовался Стелиос. — Если хочешь, приходи сегодня в «Гранд-Британию», на пресс-конференцию лидеров-националистов.
— Приду! Еще бы!..
— Тогда пошли с нами, одному тебе будет небезопасно.
Стелиос познакомил Космаса с тремя журналистами, которые ждали их в машине. Все трое были корреспондентами американских газет и придерживались весьма несхожих политических убеждений, что, однако, не мешало их полному единодушию в греческом вопросе и в вопросах войны вообще. Это были молодые ребята, чуть постарше Стелиоса, они ненавидели фашизм и прекрасно понимали, кто в Греции обидчик, а кто обиженный.
В гостинице они узнали последнюю новость: правительство решило не уходить в отставку.
— Ого! Мы угадали! — смеялись журналисты. — Они проверяли, сильна ли английская поддержка. Наверно, убедились, что сильна, получили, что желали, и надумали остаться…
— Теперь — хотите или нет — войны не миновать, — сказал Космасу Стелиос. — Англичане не упустят такого случая.
— Случая? — переспросил кто-то из коллег Стелиоса. — Какой там случай? Все рассчитано, подгадано… Погодите-ка…
В глубине коридора он увидел кого-то из знакомых и перехватил его, прежде чем тот успел войти в одну из дверей. Это был пожилой высокий мужчина с осанкой спортсмена, по-видимому, тоже журналист — на его жирной груди покачивался фотоаппарат с большой лампой. Стелиос шепнул Космасу, что это англичанин — фотожурналист и агент секретной службы.
— Никто не знает, какой из этих двух грехов больше отягощает его совесть, если она вообще у него есть и если этого гиганта можно хоть чем-нибудь отяготить…
Американец возвращался к ним бегом.
— Можете писать, на эту новость я монополии не объявляю: Черчилль телеграфировал Липеру и запретил отставку греческого премьера. Он не согласен на формирование нового правительства. Липеру поручено накачать лидеров других партий, кроме ЭАМ, и добиться, чтобы они своим личным участием поддержали правительство…
Открытие пресс-конференции задержалось. Телеграмма английского премьера застала лидеров врасплох: они всего несколько часов назад тоже подали в отставку и теперь сами не знали, кто они — министры или нет? Все пять лидеров находились в гостинице, но не показывались журналистам на глаза.
Журналисты нашли ситуацию очень комичной и развлекались.
— Надо в конце концов выманить этих мышат из норы! Куда они запропастились?
Пробиться, к лидерам они сумели только к ночи. Короткая пресс-конференция состоялась в салоне на втором этаже.
Пятеро лидеров встретили корреспондентов стоя. Это, как комментировали потом газеты, было продиктовано двумя причинами. Во-первых, чтобы беседа не затянулась, а во-вторых… Вторая причина была глубже. Салон второго этажа не предназначался для пресс-конференции, и там не оказалось стола, за которым могли бы сесть все пятеро. Рассаживаться врозь лидеры не хотели, дабы у журналистов не возникло превратных представлений об иерархии в руководящей пятерке. Иерархии не существовало, все были равны.
Корреспонденты прежде всего поинтересовались, остаются ли лидеры партии в правительстве после телеграммы господина Черчилля.
— Разумеется! Национальная партия никогда не покидала поля боя до конца сражения!
— Как проявила себя ваша партия в период оккупации?
— Тогда партии еще не существовало.
— Каковы сейчас намерения правительства? — спросил Стелиос. — Будет ли политика правительства исходить из ливанских соглашений?
— Ливанские соглашения нарушил ЭАМ. Ничего более определенного от имени правительства мы сказать не можем. Несомненно одно: сила закона будет восстановлена и укреплена, сопротивление закону будет наказано.
— Но ЭАМ — ваше национальное Сопротивление! — крикнул кто-то из глубины зала.
— Бывает сопротивление врагу и бывает сопротивление закону, — сказал высокий лысый мужчина с аристократической осанкой. — Первое мы чтим, второе мы покараем.
— Кто это? — спросил Космас Стелиоса.
— Марантис. Претендует на кресло премьера.
— На кого ваша партия возлагает ответственность за вчерашние и сегодняшние события?
Один из лидеров заявил, что это не просто события, а начало гражданской войны.
— Война уже началась и завершится только подавлением и строгим наказанием бунтовщиков. На этот счет не должно быть никаких иллюзий. Так называемые события начались с того, что бунтовщики осадили дом господина премьер-министра. Пулеметы находились на страже закона и порядка, они обороняли, а не нападали.
Космас наклонился к Стелиосу и попросил его задать вопрос, но в этот момент приблизительно то же самое спросил корреспондент английской рабочей газеты:
— Если это так, то чем вы объясните следующие обстоятельства? Первое: если демонстранты атаковали резиденцию премьера, почему не пострадал ни один из полицейских, им не нанесли ни одной царапины? Во-вторых, почему произошло сегодняшнее нападение на демонстрантов? Сегодняшние жертвы даже превзошли вчерашние. В-третьих, почему правительство хотя бы теперь, со значительным опозданием, не вступает в переговоры с ЭАМ, не изыскивает компромиссного решения?
— Государство не может идти на компромиссы, — парировал Марантис. — Государство следует по пути закона. Требования ЭАМ неприемлемы, ибо они антиконституционны. Мы никогда на них не согласимся. ЭАМ требует учредить временный орган, заменяющий королевскую власть. Учреждение этого органа противоречит конституции. Согласно статье 97-й ныне действующей конституции любой орган, заменяющий королевскую власть, может быть утвержден только принятием специального закона. Закон считается принятым, если за него проголосовал парламент и если его утвердил его величество король. Парламента сейчас не существует, а станет ли король учреждать заменяющий его орган?
Доводы Марантиса произвели впечатление.
— Если же король, — продолжал Марантис, — согласится передать свою власть другому органу, он поступит антиконституционно!
— Господин министр, — улыбаясь, сказал один из журналистов, — насколько мне известно, в 1936 году греческий король распустил парламент и установил диктатуру. Так что ему не в первый раз придется нарушать конституцию. Что же касается политических кругов, то в 1936 году они не выдвигали никаких возражений. Почему сейчас вы так непоколебимо стоите на страже конституции, не считаясь с тем, что это чисто формальное нарушение может предотвратить гражданскую войну, которая нанесет вашей стране большой ущерб?
— Мы учимся на ошибках прошлого! — поспешно ответил Марантис.
Журналисты рассмеялись. Стелиос повернулся к Космасу:
— Для меня уже все ясно, как белый день. Этот господин будет премьером. Черчилль быстро его оценит. Что ж, только он, кажется, и сумеет заменить нынешнего премьера.
Пятеро лидеров покидали зал.
— Еще один вопрос! — крикнул американец. — Какой пост согласно греческой конституции занимают в Греции господа Черчилль и Липер, которые назначают и распускают правительство?
Журналисты, в большинстве своем молодежь, с хохотом разбегались по коридору. Стелиос беседовал с кем-то из своих знакомых, Космас ожидал его в сторонке.
Кто-то взял его за локоть. Космас оглянулся и увидел незнакомое лицо, украшенное черными усиками.
— Задержитесь на минутку! — тихо сказал незнакомец.
— А кто вы такой?
— Это ты нам сейчас объяснишь, кто ты такой!
Справа и слева выросли еще двое. Космас оглянулся — сзади еще один. Но этого Космас узнал — Зойопулос.
— Сюда! Все сюда! — закричал по-английски Космас. — Это преступник! Он сотрудничал с немцами!
Сбежались корреспонденты, засверкали блицы. Встревоженные шумом, появились английские военные. Стелиос, трое американцев и один англичанин, молодой журналист с рыжей бородой и богатырскими плечами, взяли Космаса под свою защиту.
— Задержите их! — кричал англичанин. — Это фашисты!
— Покушение на прогрессивного журналиста в английском штабе, на глазах у английских офицеров!
— Только ли на глазах? Может быть, и при участии! Это нужно расследовать! Почему вы не арестовываете этих фашистов?
Журналисты вертелись вокруг, выбирая эффектный для съемки момент.
— Подними руки! — попросили они Космаса. — Будто бы на тебя направили револьвер.
— Ну, нет! — отказался Космас. — К тому же у меня только одна рука.
Английский подполковник спросил у Зойопулоса, кто он такой и каким образом оказался в гостинице. Зойопулос что-то объяснял ему на ломаном французском, и в конце концов выяснилось, что их компания составляла личную охрану пяти лидеров национальной партии. Журналисты снова подняли переполох.
— Вот это здорово! Военный преступник — телохранитель министров нынешнего правительства, которое будет судить военных преступников!
Между тем четверо телохранителей не торопясь покидали зал.
— Мы еще потолкуем, Космас! — крикнул из коридора Зойопулос. — Теперь одной рукой не отделаешься, теперь очередь дошла до головы!
Стелиос и американцы вызвались проводить Космаса.
— Мы отвезем тебя на машине! Они, может, подстерегают где-нибудь поблизости!
— Я тоже с вами! — подбежал к ним англичанин. Однако в машину все не поместились. Двое американцев вышли наступили место англичанину.
— Мы больше доверяем двум твоим кулакам, чем нашим четырем!
Машина доставила Космаса в редакцию. Стелиос вышел вместе с Космасом и крепко пожал его руку.
— Ну, будь здоров! Желаю тебе удачи! Войны теперь не миновать!.. Запиши телефоны и, если что, звони!
— И нам тоже звони! — крикнули из машины. Они записали Космасу свои имена и телефоны. — Мы в твоем распоряжении, в распоряжении республики, борющейся против фашизма.
Космас пожал им руки.
— Желаю удачи! — Богатырь-англичанин поднял в окошечке увесистый кулак.
Перед редакцией дежурил усиленный дозор. В окнах стояли тяжелые пулеметы. По улицам ходили патрули.
С площади Вафи доносилась ружейная стрельба. Всю ночь шли бои в Петралоне и в Фисионе. В центре пока было спокойно. Из Гуди английские грузовики непрерывно перевозили цольясов в гостиницы на Омонии, в здание охранки, на Марсово поле, на Ликавитос и в Колонаки. Давно задуманный план энергично претворялся в действие. Войну еще не объявили, но она уже шла.
VIII
Перед зданием районной комендатуры ЭЛАС толпа юношей и девушек требовала оружия, они уже сформировали роту. Это были молодые рабочие и учащиеся. Кое-кто пришел с револьверами и гранатами, утром на холме Скузе они разоружили группу жандармов.
Командир роты примерно одних лет с Космасом. Его зовут Зинон. Тоненький, как тростинка, спокойные голубые глаза. Чем-то похож на художника. Оказывается, он студент института изящных искусств и старший лейтенант-резервист ЭЛАС. Космас признается, что он тоже старший лейтенант ЭЛАС, и через несколько минут они уже друзья. У Зинона два револьвера — «вальтер» в кобуре и маленький браунинг в кармане. Браунинг он преподносит Космасу.
— Желаю удачи. Я не стрелял из него, но, должно быть, хороший. Пять патронов в обойме и шестой в стволе. Смотри, свали не меньше шести англичан…
Космас приехал в комендатуру на грузовике. Ему должны были дать бойцов для перевозки типографии. Два взвода из роты Зинона еще не вернулись с задания, и Зинон попросил Космаса подождать. День был морозный. Солнце не грело, а обжигало холодом. С улицы, завывая, катился злой северный ветер. Ребята кутались в пальто и черные шинели, дули на руки, прыгали с ноги на ногу. Играли в «жучка» и «козла»…
В небе показались самолеты. Они вонзались ввысь и потом сыпались вниз. Эласиты падали на землю и ждали пулеметного треска. Но англичане пока не стреляли. Они обследовали город и пугали жителей.
…Время шло, Космас уже забеспокоился, как вдруг за углом послышалась песня: «Пули британские нас не пугают, шпаги Бурантаса нам не страшны». Песенка была старая. Ее пели на площади Конституции и в прошлом, и в позапрошлом году. Слово «немецкие» теперь сменили «британские», все остальное осталось на своем месте.
Эласиты несли отвоеванное оружие. Полицейские районного участка, осажденные еще с ночи, решили без шума и крови сдать оружие и помещение участка, переоделись в штатское и мирно разошлись по домам. Они оставили пятнадцать винтовок, револьверы, один пулемет и ящик гранат.
Среди возвратившихся победителей Космас узнал двух подруг Янны. Одну из них, Дафни, он помнил получше. С ней он танцевал на вечере в клубе, Дафни читала со сцены стихи. Теперь она была в шинели, в пилотке, с винтовкой за плечом. Дафни пожаловалась Космасу на боль в плече. Ночью они гнались за бандитами, она дважды стреляла, винтовка больно ударила в плечо, и теперь там огромный синяк.
— Ничего, до свадьбы заживет, — утешил ее Космас. — У всех так бывает сначала…
* * *
Зинон отобрал бойцов, которые должны были поехать с Космасом.
— Даю тебе трех опытных, с пулеметом и автоматами, остальные новички. Ты не против?
— Согласен!
Ребята были счастливы, что в первый же день получили задание, и расстроились, когда узнали, что им придется не стрелять, а грузить типографское имущество.
— И то хорошо! — сказали они под конец. — Если нужно перевезти «Свободу» в наш район, то кому это делать, если, не нам… К тому же на нас могут напасть цольясы, и тогда мы дадим им жару…
В кузов втащили пулемет, укрепили, зарядили. Космас сел с водителем и приготовил браунинг — подарок своего нового друга.
Когда они подъехали к железнодорожной ветке, шофер включил последнюю скорость, и машина понеслась, как молния. Космас не сразу заметил, как вражеская пуля разбила стекло кабины на вершок подальше от его носа. Он понял это, когда услышал застрочивший в кузове пулемет.
— Что это там было? — спросил он шофера.
— Видел дом у самой ветки? Там засели предатели. Засекли нас и… Ну ничего, не сегодня, так завтра с ними разделаются…
День пятого декабря подходил к концу. Смеркалось, Машина выехала на Пирейскую улицу. Улица была пуста. Редкие смельчаки торопливо забегали в дома и переулки. С Омонии спускались два больших английских танка. Расстояние между ними и машиной стремительно сокращалось. Дула пушек были направлены прямо на грузовик.
— Давай еще поближе к тротуару, — сказал шоферу Космас, чувствуя, как содрогается асфальт под гигантскими глыбами металла и как легко, словно ореховая скорлупа на водной зыби, прыгает их легонькая машина. «А что, если придется воевать с этими чудищами? — думал Космас. — Чем пробьешь эти крепости? Ни браунинг, ни пулемет их не возьмут!..»
Танки поравнялись с машиной и медленно проползли мимо. Они сотрясали всю улицу — стальные слоны с вытянутыми хоботами пушек. Дюки были плотно закрыты. Те, кто сидел внутри, все видели и оставались невидимыми, убивали без риска быть убитыми.
— Ничего, есть и против них верное средство, — словно угадав мысли Космаса, весело сказал шофер.
— Какое?
— Русские под Сталинградом придумали… Разрываются, как хлопушки, надо только умело бросить бутылку с взрывчаткой, бросить куда нужно…
Когда машина подъехала к типографии, с Омонии послышались короткие и редкие пулеметные очереди. Эласиты захватили дома вокруг гостиниц, и уже с этого вечера там началось то, что генерал Скоби в своих коммюнике называл «фронтом Омонии». На площади Вафи, на Марсовом поле, в Фисионе и в Петралоне шли непрерывные бои.
Война началась, и с первого же дня ее география была ясна. Окраины освобождались несколькими выстрелами или совсем без выстрелов, зато центр переживал последние часы затишья перед бурей. Война должна была разгореться там.
Завтрашний номер «Свободы» последний раз печатался на Пирейской улице. Газета выходила с большим красным лозунгом наверху: «Все граждане Афин — в бой!»
* * *
Гражданская война закончилась в Афинах за несколько часов. С шестого декабря война велась с англичанами. Ранним утром этого дня на улице Патисион английские войска, укрывшись за танками и бронемашинами, срочно переброшенными с итальянского фронта, открыли огонь против греков. С Ликавитоса и со склонов Акрополя били английские орудия, самолеты «РАФ» реяли над городом, разя вооруженных и безоружных. В гостинице «Гранд-Британия», в штабе генерала Скоби, с этого дня начали издавать ежедневные коммюнике о ходе военных действий.
Вечером шестого декабря Янна — она была уже на седьмом месяце беременности — взялась за набор. Они печатали прокламацию вновь созданного Центрального комитета ЭЛАС:
«Греки — к оружию!..»
IX
«Свобода» снова спустилась в подвал, снова вернулась к маленькому формату, стала шустрой и вездесущей. Спирос еще раз вырезал на резине руку с пальцем, указывающим влево от заголовка, где был нарисован старый лозунг: «Свобода народу, смерть фашизму!»
Все они дневали и ночевали в подвале — четверо пожилых наборщиков, мастер, прессовщики, редакторы и Янна. Но теперь они не были изолированы от мира, как в суровые дни конспирации. Типография «Свобода» напоминала провинциальное издательство, исполняющее всевозможные заказы, а соседний домик, где в редкие свободные часы отдыхали рабочие и редакторы, превратился в оживленный постоялый двор.
Пресс работал, раскаляясь, как пулемет во время боя. Газету они печатали ночью и управлялись за несколько часов. Горячка начиналась потом, когда градом сыпались заказы: прокламации, плакаты, брошюрки с советами о ведении уличных боев, о сооружении баррикад, о первой помощи раненым — один заказ срочнее другого. Клиенты были нетерпеливы и крикливы. Военные, художники, врачи, инженеры и поэты непрерывно осаждали мастера, который давно уже потерял счет бессонным ночам и последние капли терпения. Однажды на рассвете он взмолился:
— Отпустите! Возьму винтовку и пойду воевать на Омонию!
— Лучше не надо! — отговаривал его старик наборщик. — А то, чего доброго, наши примут тебя за негра.
Сойти за негра мог не только мастер, но и все остальные наборщики и прессовщики. Они сутками не отходили от машин и даже не успевали смыть с лица и с рук жирные пятна типографской краски.
* * *
Иx район уже несколько дней как обезврежен. Рота юных эласитов захватила дом возле железной дороги, выкорчевала оттуда бандитов и, оставив в комендатуре небольшую охрану, направилась воевать в центр. Однажды в полдень на улице Патисион Космаса окликнула Дафни. Она вместе с подругой тащила раненого. Космас спросил, где теперь их рота.
— Возле юнкерского училища! — торопливо крикнули девушки. — Они давно уже держат осаду, скоро пойдут на приступ.
Космас повернул на Марсово поле. Девушки крикнули вдогонку, чтоб он остерегался самолетов. «Иди под деревьями!» — советовала Дафни.
Листья с низких деревьев опали, и голые ветви едва ли могли послужить прикрытием, однако Космасу не раз пришлось просить у них защиты, пока он не добрался до старых и густых деревьев вокруг бара «Альсос». Самолеты не давали ни минуты покоя, они спускались, поливая огнем осаждавших училище эласитов, и поднимались, готовясь к новому налету. Перебегая от дерева к дереву, то и дело припадая к земле, Космас обогнул бар, где он раза два или три во время оккупации ел дешевое мороженое с изюмом. За баром снова начиналась аллея молоденьких насаждений с опавшими листьями, но здесь деревца теснились друг к другу, почти не оставляя голых прогалин, и прикрывали спрятавшихся под ними бойцов, Бойцы показали Космасу, где расположена рота Зинона.
Аллея кончалась, и впереди открылось взрытое окопами и траншеями поле. Там ожидали сигнала к приступу молодые эласиты. Осажденные в корпусах юнкера уже выдохлись и не оказывали сопротивления. Они стреляли редко и неохотно. Оторвавшись от деревьев, Космас побежал напрямик, но сзади его тотчас окликнули: в небе снова появились самолеты. Космас едва успел обхватить ствол ближайшего дерева, как услышал рев снижающихся самолетов и вой снарядов, взметнувших тяжелые комья мокрой земли. Самолеты пролетели и вернулись с обратной стороны. Космас тоже обогнул дерево и снова приник к стволу. Самолеты опять пошли на снижение и открыли огонь.
Когда они улетели, Космас в несколько прыжков добрался до первой траншеи и соскользнул вниз. В траншее он увидел Зинона. Он сидел прямо на сырой земле и перевязывал платком окровавленную голень.
— Ранили?
— Наугад бьют, черти! Пустяки, царапина… А ты чего пришел — репортаж писать или браунинг попробовать?
— Спасибо, что напомнил! — Космас похлопал по карману и удостоверился, что браунинг на месте. — Давай я перевяжу!
— Уже готово! Задело самую малость…
Но Космас заметил, что платок уже намок от крови, а сам Зинон очень бледен. Он встал и показался Космасу еще выше и тоньше, чем раньше.
— Может, серьезно ранили?
— Да нет, оцарапало голень… Одним словом, ерунда! — храбрился Зинон.
— Ну ладно… Как тут у вас дела?
— Считай, что они у нас в руках. Одного не пойму — почему не дают сигнала на приступ? Дождемся, что приедут танки и заберут этих молодчиков…
— Когда вы успели вырыть эти траншеи?
— Не мы рыли, а юнкера! — ответил один из молодых бойцов. — Они еще до войны вырыли, далеко вперед смотрели, для нас постарались…
С той стороны, откуда прибежал Космас, послышались голоса, а потом показалась целая группа бойцов. Зинон замахал руками и сердито закричал:
— Да вы что, одурели? Какого черта бежите оравой? А ну-ка, по одному!
Но бойцы не могли бежать врозь. Они волокли странное орудие — микроскопическую пушку с коротким толстым стволом.
— У нее огромная пробивная способность, — заверил командир расчета.
В конце аллеи показались еще двое бойцов, они несли ящик со снарядами.
— Сейчас сами увидите, — пообещал командир и вынул один снаряд.
Молодые эласиты с горящими от любопытства глазами окружили пушечку, желая полюбоваться на механизм страшного орудия.
— А танк она возьмет?
— Зависит от снаряда…
— А есть у нас еще такие пушки?
— Еще четыре.
Эта цифра показалась бойцам внушительной.
— А снаряды?
— Хва-а-тит! — засмеялся наводчик. — Есть у нас и на них управа! А ты как думал?
Космас оглянулся на бойцов. Их лица оживились радостной улыбкой. Появление маленькой пушки развеяло напряженную перед атакой атмосферу. Бойцы следили за движениями наводчика и, казалось, совсем не встревожились, когда за зданием училища снова послышался сильный гул.
— Давай скорее! — торопил Зинон. — Самолеты…
— Танки! — крикнули из крайней траншеи.
Их рычание раздавалось уже совсем близко. Из окон осажденного здания снова хлынул сильный огонь. В нарастающем реве танков маленькое орудие прогрохотало, как низкий гром. Снаряд, от которого ожидали потрясающих разрушений, ударился о высокую и толстую стену и упал вниз, как черный, издохший в прыжке кот.
— Эй! В чем дело? — закричали из траншей.
Неудача не разочаровала, а, наоборот, развеселила бойцов. — Представление провалилось! Давай обратно наши денежки!
Наводчик присел на корточки возле своего орудия и, позабыв о пулях, которые жужжали вокруг, старался обнаружить свой промах.
— Снаряд не тот! — поставил он наконец диагноз и крикнул своему подручному: — Дай-ка мне зеленый!
Подручный быстро открыл ящик и вынул из него зеленый снаряд. Пушечка снова прогрохотала, земля содрогнулась, на здании училища взметнулись ярко-красные, как густая кровь, языки пламени и рухнули вниз вместе с обломками стены.
— Вперед! — крикнул Зинон и первым выскочил из траншеи.
Когда они вбежали в сорванную гранатой дверь, в здании оставались только убитые и раненые, которых удиравшие юнкера бросили на произвол противника. С обратной стороны здания, во дворе, стояли танки; огнем пушек и пулеметов они прикрывали беглецов, садившихся в бронемашины.
— Куда пропал этот наводчик? — кричал Зинон, — Неужели мы дадим им смыться?
Наводчик прибежал, кусая от досады губы.
— Чем я заряжу пушку? Пальцем?
— Снарядов нет?
— Те, что были, кончились. Теперь надо послать на Патисия, за новой партией…
— Правильно, — съязвил Зинон, — а пока сбегай к танкам, попроси, чтоб подождали…
Он весь как-то переломился и прислонился к стене, Лицо у него было белым как мел.
— Что с тобой?
Длинная, легкая фигура Зинона склонилась к плечу Космаса, но тут же выпрямилась.
— Тебе плохо? Эй, пришлите сюда носилки!
— Нет, что ты, не надо!
— Пришлите носилки!
Носилок не оказалось, и бойцы, поддерживая Зинона под мышки, отвели его в «Альсос», где находился врач. Там его разули, нога была залита кровью. Врач снял с раны платок, промыл спиртом. Зинон слегка застонал и стиснул зубы. И тогда все увидели развороченную тонкую голень и в глубине белую кость…
— Вот это здорово! — воскликнул врач. — Да как же ты сумел дойти?
* * *
Укрывшись пальто, Космас лежал на полу. Он закончил работу на рассвете. В комнатушке, где отдыхали наборщики, нашелся свободный уголок и для него. Сквозь надвигающийся сон Космас услышал крик — кричала Янна. Он выскочил в коридор. Янна стояла у входной двери.
— Танки!
В полуоткрытую дверь заглядывал серый холодный свет. Космас высунул голову и увидел ползущие темные громадины.
— Все равно предпринять мы ничего не успеем. — Он захлопнул дверь и отвел Янну в сторону. — Иди сюда, а то не ровен час еще пальнут…
Лязганье тяжелых гусениц нарастало, и маленький домик трясло. Все его обитатели сбежались в коридор.
— Ну, будь что будет, — сказал Космас. — Испробуем свое счастье.
Танки проползли в нескольких метрах от стены. В щелку Космас увидел, что за двумя танками следовала бронемашина.
— Боюсь, не нас ли они разыскивали?
— Вполне возможно… А есть у нас чем обороняться?
Кроме браунинга, который подарил Космасу Зинон, на вооружении типографии оказались одна граната и один револьвер с тремя разбухшими, позеленевшими патронами — семейная реликвия самого старого из наборщиков. Они были безоружны и беззащитны не только против танков и самолетов, а даже против бандитов, которые могли появиться однажды ночью.
В глубине улицы послышались выстрелы, а потом грохотание возвращающихся танков. Они свернули за угол и направились в сторону железной дороги.
— Как бы то ни было, — сказал Спирос, — даже если они и не по нашу душу заявились, нужно принять срочные меры.
Они решили в этот день не печатать ничего, кроме газеты, и занялись сооружением баррикады. Ее воздвигли к вечеру между двумя новыми домами, метрах в ста от типографии. Материалом послужили шпалы и рельсы с железной дороги.
— Бог знает, сколько раз я использовал в своих стихах слово «баррикада» и только теперь увидел воочию, что это такое! — говорил литсотрудник, пока один из наборщиков делал ему массаж. От тяжелой работы у поэта разболелась спина.
Спирос вызвал Космаса в подвал.
— Позаботься об оружии. Составь график дежурств. Все, кроме больных, будем нести караул. И раза два в день проводи с нами занятия по военной подготовке…
* * *
Только мастер, который каждую ночь набирает число для нового номера газеты, ведет счет суткам. Для остальных время бежит неуловимо, они замечают лишь смену дня и ночи и боевых новостей, которые становятся все тревожнее. В холодном, сыром подвале голодные часы тянутся медленно, а ночью, в карауле, они и вовсе кажутся неподвижными, как черная, непреодолимая баррикада. В щели между шпалами и рельсами проникает ледяной ветер, он свистит и грохочет, словно наползающий танк.
Бои идут в центре. Треугольник «Скобия»: Омония — площадь Конституции — Колонаки, — занятый войсками Скоби, все сужается и сужается. Укрепленные здания вне этого треугольника уже попали в руки голодных и оборванных юношей. В Кифисье после тридцатичасового боя пятьсот англичан оставили обороняемые гостиницы и все свое вооружение.
Скоби переправляет с итальянского фронта солдат, самолеты, военные корабли. В Афины приезжают маршал Александер и британский министр Макмиллан.
Это был день огромных жертв. Самолеты «Дакота» сбросили бомбы на Афины, Пирей и Коккиныо. Сотни бойцов и безоружных жителей были погребены под развалинами. Смертью веяло со склонов Акрополя и Ликавитоса, смерть разносили по улицам города танки. С моря военные корабли обстреляли Драпецону и Кесарьяни. Вечером коммюнике Скоби сообщило, что за этот день на греков обрушилось две тысячи снарядов.
Декабрь вступил в последнюю декаду. Радио передавало, что армия немецкого маршала фон Рустента вернулась на территорию Бельгии и стремительно движется к Льежу. Другая армия обратила в бегство англо-американские войска в Люксембурге и направляется в Сен-Виту. На итальянском фронте, в районе Файенца, немецкие войска перешли в наступление и значительно продвинулись вперед. Англичане отступили.
…Мастер, отлучившийся на несколько часов повидать детей и жену в Пирее, принес к вечеру еще одну новость: в Фалиро прибыли новые корабли из Италии, они опять привезли войска.
Они проснулись от криков часового — снова показались танки.
Часовой бежал и кричал на всю улицу.
— Да погоди ты, — остановил его Космас. — Сколько их?
— Пять! И сзади, по-моему, еще пять…
— Это ты просто-напросто два раза их сосчитал, — сказал наборщик. — Пять одним глазом, пять другим. Не бойся, через баррикаду им не пройти…
Из подвала торопливо поднимался Спирос.
— Берите гранаты! По местам!
Они заняли места в доме возле баррикады. Из окна Космас увидел три танка. Самый большой полз первым и палил по баррикаде из пулеметов. На расстоянии метров пятидесяти танк остановился и стал поворачивать в сторону баррикады пушку. Он собирался разметать препятствие сильным огнем.
Они лежали на полу под градом сыпавшихся стекол и штукатурки. Насыщенный пылью воздух потемнел. Космас задыхался, он попробовал встать. Комната вдруг осветилась, и теплая волна снова швырнула его на пол. Внизу один за другим разрывались снаряды. Дом шатался…
— Сейчас переползет! — услышал Космас чей-то крик. Он снова приподнялся и встал на колени. В ушах гудело, будто прямо над крышей кружили самолеты. За облаком пыли он увидел танк — гигантского пепельного бронтозавра. Изрыгая клубы дыма, он неуклюже раскачивался на развороченных рельсах. В руке Космас ощутил горлышко бутылки, заостренный шест, который нужно было вонзить в глаз циклопа.
Он поднял руку, прицелился. Танк стоял на том же месте, на хребте баррикады. В соседнем окне Космас заметил еще одну вытянутую руку и качнулся вперед, словно прыгнул через пропасть. «Аэра!» — боль полоснула у него в горле.
Две гранаты разорвались одна за другой, воздух дохнул дымом и огнем. Гигантский танк сполз вниз, стеною встал за грудой железа, взревел и заворочал башней, как будто старался восстановить потерянное равновесие.
— Еще одну! — крикнули из окон.
Уже не медленно и важно, как явились, а поспешно, словно побитый скот, уходили обратно танки.
На улице, за разрушенной, но непреодоленной баррикадой, царило ликование. Все были целы и невредимы, в пыли, копоти и штукатурке. Последней из дома напротив вышла Янна, улыбающаяся, с белыми бровями, белыми волосами — старушка, еле передвигавшая ноги.
— Еще один танк! — кивнул в ее сторону Спирос.
…А час спустя, когда они возились на баррикаде, водворяя на место съехавшие рельсы, в небе загудели самолеты. Спрятаться не успели; свернувшись калачиком, застыли тут же, на баррикаде, и слушали щелканье пуль по мостовой и стенам. Когда первый вихрь пронесся дальше, они вскочили и бросились в подвал. Двое наборщиков и корректор остались на баррикаде, их тела свисали с рельсов, недвижные, как брошенная одежда.
Космас оглянулся, хотел позвать товарищей, чтоб унести тела погибших, и в нескольких метрах от баррикады, на асфальте, увидел еще одно тело, плавающее в крови. Космас подбежал, нагнулся — это был литсотрудник «Свободы».
Двумя кварталами ниже, в церкви, прятались женщины и дети. Почти в ту же минуту, когда появились самолеты, с Акрополя ударила артиллерия. В страшном гуле самолетов снаряды упали без шума, без свиста. Один из них выбрал черепичную крышу церкви, пробил ее и нырнул вниз.
* * *
В полдень они узнали страшную новость: семь эласитов явились в дом профессора Алексиадиса, подняли больного старика с постели, заявили, что отведут его в комендатуру, и зарезали тут же, во дворе.
— Быть не может! — говорил совершенно разбитый Спирос. — Быть не может, чтобы наши пошли на такое преступление. Зачем им это могло понадобиться?
Племянница и брат профессора — остальные члены семьи с началом военных действий перебрались в Гекалу — присутствовали при аресте. Они просили эласитов оставить старика в покое и вызывались пойти в комендатуру вместо него, но эласиты сказали, что профессору ни чего не угрожает, он даст какие-то показания, и его тотчас привезут обратно.
— Пойду сам разузнаю, — сказал Спирос.
Вместе с начальником народной милиции он пошел к родственникам профессора, но не услышал от них ничего нового и утешительного.
— Насчет комендатуры — чистая утка, — сообщил начальник милиции. — Ни комендатура, ни милиция и не думали отдавать такого распоряжения. И если все-таки поверить, что убийство совершили эласиты, то объяснение может быть только одно. С месяц назад «Свобода» напечатала о профессоре заметку, и, может быть, нашлись безумные юные головы, которые из фанатизма…
Заметка, о которой говорил начальник милиции, была опубликована в начале декабря. Депутация студентов посетила ряд известных деятелей науки и культуры и предложила им подписать обращение к правительству с просьбой очистить университеты и другие высшие учебные заведения от преподавателей, Которые скомпрометировали себя во время оккупации. Профессор Алексиадис отказался подписать обращение. Он заявил, что это работа коммунистов. «Свобода» написала об этом эпизоде и в заключение отметила, что с профессором нельзя не согласиться, если он имеет в виду, что о чести нации заботятся только коммунисты.
— Я не думаю, что эта заметка могла внушить ненависть и толкнуть на такое преступление, — сомневался Спирос. — Кто эти фанатики? Ведь их было семеро! Нет, нет! Это не приступ фанатической ненависти, а организованное преступление.
На другой же день милиции удалось выяснить, что в районе действовала шайка террористов, переодетых в форму ЭЛАС. Ночью, за сутки до того, как совершилось преступление, из центра спустились два танка и бронемашина. В милиции подозревали, что бронемашина перевозила бандитов.
Когда они остались вдвоем, Спирос сказал Космасу:
— Тебе я могу сообщить еще одну деталь. Знаешь, кто орудует в этой шайке? Помнишь, кто предал нашу типографию?
— Сарантос?
— Он самый. Он жил в этом квартале, знает здесь каждое окошко и каждую кошку. Вчера вечером его видели на улице… Чего там сомневаться, это он, конечно, навел сюда бандитов…
Спирос замолчал и задумчиво посмотрел на стеклянную дверь. Там, в соседней комнате, работали наборщики. У Космаса защемило сердце. Он словно впервые увидел бледное, усталое лицо Спироса и его совсем уже седые волосы.
— Положение, Космас, очень критическое, — снова заговорил Спирос. — Многие кварталы они сровняли с землей. Скоби подвозит подкрепление и старательно выполняет обещание Черчилля — превратить Афины в развалины… Возможно, кое-какие позиции придется оставить…
X
Ночью Космаса разбудили. Пришла его очередь отдежурить два часа на баррикаде.
— Сколько времени? — спросил он у сменившегося часового.
— Полвторого.
— Замерз?
— Окоченел! — Часовой, припрыгивая, побежал к двери.
Мороз крепчал. Стоять за баррикадой было невозможно. Ветер с удвоенной силой вырывался из щелей и впивался в тело ледяными лезвиями, отточенными на баррикадных рельсах. Через несколько минут Космас совсем продрог и принялся дуть на руку. На единственную руку. Здесь, на пронизывающем ветру, отсутствие второй руки сказывалось особенно явственно.
Ночь была очень беспокойная. Небо без единого облачка. Чистое, как кристалл, традиционное рождественское небо со сверкающими звездами, холодными и золотыми, как флорины. Но и в это рождество они опять окровавлены, как в прошлый, как в позапрошлый год. В прошлом году Космас встретил Новый год на Астрасе. В ту ночь англичане убили Уоррена.
В центре продолжаются бои, где-то гремит артиллерия. Космас пытается угадать — где. Но эхо взрывов расходится по городу, как круги по воде, и уловить, откуда они, невозможно. Наверно, опять Кесарьяни, стертая с лица земли, но все еще не сдающаяся Кесарьяни… Неожиданно за церковью кричат в рупор. Это молодежь. Каждые два часа на улицах сменяются патрули. Рупор кричит снова. Космас старается собрать осколки слов: «Внимание!» Ветер свирепствует, как цензор, со свистом вычеркивает слоги, слова, целые фразы… Внезапный грохот покрывает и крик, и свист ветра, он приближается и усиливается. Похоже на танки, на самолеты… Космас карабкается на ледяные рельсы и глядит вдаль… Грохот обрывается. «Мы сражаемся и поем! — словно пулеметная очередь, прорвавшая блокаду, вылетает из рупора коротенькая фраза. — Революция еще держится!»
«Еще» — это слово разрывается, как снаряд. Революция еще держится, но сколько еще продержится?
* * *
Днем Космас был на Патисия. По дороге он встретил безоружную колонну. Пожилые мужчины и женщины из какого-то рабочего поселка требовали, чтобы их зачислили в армию. «Мы — резерв ЭЛАС!» — написали они на большом плакате, который несли в первых рядах. Резерв армии был неисчерпаем, насколько может быть неисчерпаем резерв революционного народа. И несмотря на это, впереди явственно брезжил конец. То, на что намекнул Спирос, Космас почувствовал еще отчетливее на площади Агамон. Здесь он услышал слово «отступление». Пока что его произносили шепотом…
Однако через четверть часа в молодежном клубе в Кипсели его недобрые предчувствия-рассеялись, как дым. Они потонули в кипящем водовороте юности. Еще вчера вечером клуб был обстрелян с Ликавитоса, а сегодня его снова переполнила вооруженная молодежь. Осыпавшиеся стены и дырявая крыша качаются от песен, как вчера вечером качались от снарядов.
Пули британские нас не пугают…
Эта песня звучит как клятва перед боем.
Высокий юноша, взгромоздившись на стол, читает горячие слова привета от молодежи Америки: «На вашей стороне человечество… Ваша победа будет и нашей победой!» «Мы победим! — кричат из зала. — В бой до победы!»
Кто-то схватил Космаса за руку — это студент-филолог, он иногда писал для второй страницы «Свободы».
Теперь он отпустил русую бороду, поверх рваного пиджака крест-накрест висят патронные ленты. Студент тащит Космаса в угол и знакомит со своими товарищами — двумя парнями и тремя девушками. Они тоже студенты из роты имени Байрона. Вчера ночью погиб их капитан.
— Как там, впереди? — спрашивает Космас. Студент отвечает. Сквозь гул кажется, что он декламирует:
— Возможно, танки, самолеты и пушки не оставят целым ни одного дома, но мы будем биться даже за развалины…
Это слова какого-то обращения.
— Самая пламенная поэма из всех, какие были и будут написаны, — говорит студент. — Разве не так? Мы уже бьемся за развалины…
— И будем биться до победы, — закончила девушка.
* * *
Со стороны типографии послышались шаги. На смену Космасу шел новый часовой.
— Уже?
— Уже было полчаса назад, я злоупотребил твоей любезностью.
— Вернее, рассеянностью. Я тут задумался и не заметил, как время пробежало.
— Хорошо, что я не спал, а работал. А то пришлось бы тебе стоять до тех пор, пока не заметил бы…
В типографии еще горел свет. Космас сбежал по ступенькам, распахнул дверь и за кассой увидел Янну. Лампочка висела у нее над головой, тени падали на лицо и удлиняли его. «Ей сейчас тяжелей, чем всем нам», — подумал Космас. Янна оглянулась.
— Иди сюда. Если можешь, подожди. Я скоро кончу.
— Вот и прекрасно! Я уложу тебя спать.
Янна быстро закончила набор, вымыла руки в бензине.
— Не знаю, что сегодня со мной… Какая-то тяжесть…
Космас взял ее под руку, и они медленно поднялись по лестнице.
— Пора тебе кончать с этой работой, Янна. Больше нельзя.
— Дело не в этом. Вернее, не только в этом. Вот, например, сегодня. — Янна остановилась на ступеньке и посмотрела на Космаса. — Настроение прыгает, как мячик. Один час я чувствую себя замечательно, не устаю, все кажется легким и доступным, а через час голова тяжелая, в глазах темно и все такое мрачное, грустное…
— Вот видишь, я прав — ты переутомилась…
Они вышли на улицу, было еще темно. Янна плотнее запахнула большое, отцовское пальто и прижалась к Космасу.
— Сейчас ты выспишься, и все пройдет. А насчет работы мы завтра же договоримся.
Янна его не слушала.
— Сегодня погибла Дафни. Вернее, прошлой ночью… на улице Третьего сентября…
— Как это случилось? — машинально спросил Космас и тут же понял, что лучше было не спрашивать.
— Застрелили из танка ее и еще двух ребят. Сегодня их похоронили на кладбище в Лиосия. Тетя Ольга зашла и сказала…
— Как она поживает?
— Хорошо. В доме у нее госпиталь, и тетушка ухаживает за ранеными…
— А справляется она?
— Еще бы… В молодости она была на войне санитаркой. Дафни умерла у нее на руках…
Космас нежно обнял Янну.
— Ты сегодня очень взволнована, давай не будем говорить об этом.
У двери в комнату женщин они остановились.
— Кто там? — спросил Космас.
— Должно быть, никого. Погоди, я посмотрю. Комната была пуста.
— Вот и хорошо, — весело сказал Космас. — Сейчас я тебя уложу и расскажу сказку…
Янна зажгла лампу. Отвернувшись к стене, Космас слышал, как она раздевалась — медленно и устало; слушал ее дыхание, то быстрое, то замирающее. И он подумал, что в судьбе женщин, готовящихся стать матерями, есть что-то от судьбы безвестных героев: они дарят миру частицы своей жизни, и подвиг их совершается тихо и бесшумно, как и подобает настоящему подвигу.
— Иди сюда! — Янна уже легла. — Ты не хочешь спать?.. Ну, тогда садись и расскажи мне что-нибудь… Что ты сегодня делал? Куда ходил?
Космас рассказывал, и она слушала его с закрытыми глазами. Раза два или три Космас умолкал, он думал, что Янна уснула. Но она просила его продолжать. Голос у нее был далекий и тоненький. Потом с Акрополя ударили пушки. Космас замолчал и прислушался: снаряды падали далеко, но все-таки в их районе. Пушки то затихали, то снова принимались стрелять. Они били наугад — то туда, то сюда — и от этого были вдвойне опасны.
— Подлецы! — стиснул зубы Космас. — Стреляют вслепую по кварталам, почти что безоружным. В кого они целят? Зачем?
Янна уснула. Спала она красиво, улыбаясь, точно дитя.
…За окном рассветало. Еще один рассвет. Высокие здания вырисовывались смутно — большие, слившиеся громады, совсем как горы. В неясном полусвете и они, и время одинаково неразличимы. Поди определи, ночь ли наступает или занимается день…
Для сна осталась самая малость. Пробирает утренний мороз, а где-то в глубине сжимается теплый комочек, искра радости, которую раздувает предчувствие наступающего дня. Есть у этих часов свое счастье, свежее, еще неопределившееся, нетерпеливое, счастье ожидания.
* * *
Рано утром Космаса вызвал Спирос. Он ждал в маленькой конторке в подвале и был не один. Имя второго человека ничего не говорило Космасу, но вслед за именем Спирос произнес три слова, которые окончательно прогнали сон: Центральный комитет ЭЛАС.
— Ну как настроение, Космас?
— И уши, и ноги в боевой готовности.
Они рассмеялись.
— Садись. Нам понадобится и то, и другое. Сегодня же тебе придется поехать в Астипалею.
«Наконец-то! — подумал Коемас. — Дошла очередь и до ребят с Астраса!»
— …Ничего еще не решено, — звук чужого голоса падал, как удары молотка, — однако могут произойти некоторые перемещения. Возможно, придется оставить Афины…
Конторка сдвинулась с места и закружилась.
— В случае необходимости дивизия должна будет прикрыть отступление, в первую очередь женщин и детей, которые уйдут вместе с армией. Война, понятно, на этом не кончится…
На сердце сразу потеплело, конторка встала на свое место.
— Распоряжение ты получишь в письменном виде.
— Когда выезжать?
— Считай, что с этой минуты ты уже в пути. Быстренько уладь свои дела в редакции. За тобой приедет машина. Обратно вернешься с ответом…
В типографии его ждала Янна.
— Я не спрашиваю, куда ты едешь. Не говори. Но тебе нужно переодеться, сменить рубашку, белье. Когда ты выезжаешь?
Он ответил, что будет ждать машину.
— Ну, вот что, — решила Янна, — я пойду домой и принесу все, что нужно… И не вздумай возражать, я бы все равно пошла по своим делам… Это уже по женской части и тебя не касается… С отцом я договорилась, он разрешил…
— Так и быть, — согласился Космас. — Но смотри не спеши. Я скорее всего уже уеду, так что не беги, иди осторожно…
Он проводил ее до угла.
— И когда ты вернешься? — решилась спросить Янна.
— Думаю, дня через два-три, не позже… Я еду недалеко…
— Я не спрашиваю…
На углу они протянули друг другу руки. Он торопливо поцеловал ее волосы, она с улыбкой нагнулась и выскользнула у него из-под руки, точно прошла через низенькую дверь. Волосы ее упали, закрыли лицо. Янна тряхнула головой и зашагала — Космасу показалось, что слишком быстро.
— Мы же договорились не торопиться!
— Если ты сию же минуту не уйдешь, я побегу!
Космас не ушел и продолжал смотреть ей вслед, тогда Янна сделала вид, что собирается побежать. «Ладно! Ладно!» — крикнул Космас и не оглядываясь завернул за угол.
* * *
Через два часа подъехала машина, а Янна все еще не вернулась. На машине приехал Спирос. Он был расстроен.
— Отправляйся немедленно! — сказал он Космасу и спустился в подвал.
— Да, да, сейчас!
Космас добежал до угла — Янны не было. Он пробежал еще один квартал…
Возвращаясь, он увидел Спироса, который возбужденно разговаривал с шофером. Космас побежал еще быстрее.
— Почему ты запоздал?
Пожалуй, никогда еще Спирос не был с ним так суров.
— Я ждал Янну!
— А куда она пошла?
Космас начал объяснять.
— Ах, да, — вспомнил Спирос, — она что-то говорила мне утром… Но выезжать нужно немедленно. — Его тон снова стал ровным. — Положение осложняется… Утром опять обстреляли Коккинью. Не оставили камня на камне… А у нас в районе сегодня ночью произошло еще одно преступление… Зарезали врача и всю его семью… Так же, как и профессора…
Космас пожал ему руку и сел в машину, не сводя глаз с перекрестка.
* * *
— Этот узел для тебя тяжеловат! — сказала тетушка, глядя, сколько белья собирает Янна. — Погоди, я сейчас накину пальто.
Из дому они вышли вместе.
— Я тоже хочу повидать Космаса! — сказала старушка.
И она пошла по левую руку от Янны, поддерживая узел. При ярком дневном свете Янна показалась ей еще бледнее, чем дома. И она подумала, что нужно будет пробрать и отца, и мужа. Не дело это для женщины перед самыми родами круглый день работать в типографии без воздуха и света. «Вот сейчас пойду и поговорю с ними. И сегодня же заберу Янну домой!»
А Янна торопилась и шагала все быстрее.
— Тише, девочка, тише, — говорила старушка. — И тебе не след сейчас бегать, да и я тоже не могу. Давай передохнем…
Янна остановилась, но тотчас снова подняла узел. Она очень волновалась.
— Уедет Космас, и мы его не застанем… — Не бойся, успеем.
Так они прошли половину дороги и, чтобы сократить путь, свернули с большой улицы в узенький переулочек. Они пробирались среди заборов из гнилых досок, ржавой жести и проволоки и зашли уже далеко, когда Янна вдруг вскрикнула. Вскрикнула негромким криком человека, с которым случилась беда, страшная беда. Переулочек был узкий и грязный, впереди шла тетушка, сзади Янна. Тетушка оглянулась на крик и увидела белое, искаженное страхом лицо племянницы.
— Неужто схватки? Бог мой, какая беда!
Янна поднесла палец к губам.
— Иди, тетушка, иди!
— Да что с тобой?
— Иди скорей! — еще нетерпеливее прошептала Янна и подтолкнула ее узлом.
Только тут старушка заметила, что Янна старательно смотрит налево. А справа, в глубине двора, мимо которого они шли, она краем глаза выхватила двоих — мужчину и женщину, они стояли в дверях и разговаривали… Тетушка побежала. Позади она слышала тяжелое дыхание Янны и чавканье грязи под башмаками.
Чуть подальше, за полуразрушенным каменным забором, сидели на поленнице пятеро мужчин. Это были эласиты.
Янна кинула узел в руки тетушки и бросилась к забору. Эласиты вскочили на ноги.
— Скорей! Здесь, вон в том дворе, предатель, — тихо сказала Янна.
— Какой предатель? — Бойцы перепрыгнули через забор и окружили Янну.
— Скорее, а то убежит…
Старушка видела, что бойцы как будто колеблются и нерешительно переглядываются. «Не верят или боятся», — подумала она и тоже крикнула:
— Скорее! Она знает, что говорит… Наконец один из бойцов решился.
— Поди покажи нам его! — сказал он Янне и взял ее за локоть.
Янна сморщилась от боли, попробовала выдернуть руку, но он не отпускал.
— Чего ты меня держишь?
Тот схватил ее и за вторую руку.
— Молчи! — прошипел он сквозь зубы. — Пикнешь — прикончим!
Обезумев от страха, потеряв дар речи и не понимая, что же это происходит, смотрела тетушка Ольга, как бьется Янна в руках вооруженных мужчин. Вот они заткнули ей рот.
Со стороны дома крикнули:
— Эй, что там у вас?
— Вали сюда!..
И он прибежал, смуглый небритый мужчина с револьвером в руках.
— Посмотри. Она тебя знает!
Он нагнулся, взглянул.
— Кончайте и отчаливайте…
Янна еще боролась. Сдавленные крики вырывались из прикрытого мужской ладонью рта. И тут тетушка Ольга увидела, как в тяжелых, толстых руках сверкнуло белое лезвие. Ноги у нее подкосились, она упала и поползла по грязи, обнимая чьи-то ноги, оказавшиеся возле ее лица. Голос ее звучал, как слабый вздох, как последнее дыхание старческой души:
— Нет, сынок, нет! Она беременна… Она мать!
— Одним большевиком меньше! — рявкнул сверху грубый бас.
Большой нож глубоко вошел в живот — легко и бесшумно, как в тесто.
— И меня! — тающим голосом прошептала старуха.
— И тебя!
Она увидела над собой красный клинок, он падал и закрывал от нее землю, словно красное, окровавленное небо, обволакивающее весь мир, от горизонта до горизонта.
XI
Пожалуй, никогда еще Космас не видел Ставроса таким довольным, как в то утро, когда приехал в Астипалею.
Произошло следующее:
«Астрас», который стараниями Бубукиса и Элефтерии превратился в одну из лучших провинциальных газет, в те дни пережил серьезный бумажный кризис. Элефтерия давно уже забила тревогу и предупредила Ставроса и секретаря областного комитета ЭАМ Лиаса, что газета того и гляди закроется. Тревожные сигналы передали по инстанциям, но в ответ получили жалкие крохи. Помочь мог только Мил, но он заявил, что не такой дурак, чтобы давать эамовцам бумагу для газеты.
— Судите сами, — как будто в шутку говорил он в штабе, — это было бы по меньшей мере странно: в Афинах ЭАМ воюет против англичан, а в Астипалее капитан английской армии дает эамовцам бумагу, чтобы ЭАМ открыла против английской армии газетную войну…
— Во-первых, — одернул его Ставрос, — Афины — одно дело, Астипалея — другое. Не ЭАМ воюет в Афинах против англичан, а, наоборот, наши союзники — англичане — воюют против ЭАМ. А здесь, в Астипалее, мы, кажется, не воюем. Приходите вы к нам в дивизию — мы угощаем вас кофе, мы к вам приходим — вы предлагаете нам чай.
— Но как бы с бумагой не получилось то же самое, что с оружием. Во время оккупации мы давали партизанам оружие против немцев, а теперь они обернули его против нас…
Тут Ставрос снова перебил Мила:
— Какое оружие? Оружие мы добывали в бою, у фашистов и греческих предателей, а если сейчас в Афинах добываем и у англичан, то не по нашей вине.
Мил сделал вид, что после этих слов Ставроса ему сказать уже нечего.
— Конечно, конечно… Я шучу… А бумаги у меня все-таки нет.
— Но мы узнали…
— Да, действительно, вагоны с бумагой пришли, но на другой же день мы ее раздали… Если бы вы попросили нас раньше…
Мил не подозревал о том, что все железнодорожные грузчики были преданными эамовцами и лучше его самого знали, что есть и чего нет на английских складах, расположенных у вокзала.
Он так и не понял, что именно произошло, но, видя, что «Астрас» не закрылся, взвесил все обстоятельства и явился к Ставросу с претензией.
— Не может быть! — воскликнул Ставрос. — И потом, вы же говорили, что бумаги у вас нет?
Отказаться от своих слов Мил не захотел.
— Ох, если бы ты его видел! — рассказывал Космасу Ставрос. Он все еще был под впечатлением разговора и описывал его со всеми подробностями. — Если бы ты видел его гримасу, когда он понял, что его же ложь его наказала…
В полдень в офицерской столовой разговор тоже зашел о бумаге.
— Поделом Милу, — рассуждал Лиас, — умную птицу ловят за нос.
— Ох, уж эти пословицы! — скептически заметил врач. — Мне по душе те из них, которые суммируют горький опыт веков… Так вот, я тоже скажу вам одну пословицу на злобу дня. Главным образом для тебя, любезный мой Лиас! — Старик понизил голос и произнес как загадку: — У вора украли весло, а он тем временем — лодку. Что скажешь?
— А при чем тут…
— В те времена, когда я был молод, — словно старик сказочник, заговорил врач, — я очень увлекался английскими романами про Африку и другие имперские колонии. И мне запала в память одна история. Англичанин-геолог в белом шлеме, защищающем белый цвет его кожи, рыщет по девственным лесам в поисках — чего? — разумеется, золота. При нем охрана и проводники-туземцы. На берегах крокодильих рек и огромных теплых озер он находит то, что искал, и его люди собирают для него несметное богатство. Англичанин, конечно, доволен, но довольны и туземцы. Знаешь, что они делают?
Врач остановил на Лиасе вопросительный взгляд, Лиас в свою очередь смотрел на него с терпеливой улыбкой: что ж, дескать, выслушаем и это…
— Так что же они делают? — продолжал врач с усмешкой. — Когда англичанин спит и закрывает лицо от москитов своим белым шлемом, они развязывают его рюкзак. Вот там настоящее богатство! Какие разноцветные безделушки, белые блестящие крестики, ножики, цепочки, зеркальца — с одной стороны полуголые белые красавицы, а с другой стороны их собственные черные физиономии. Туземцы помаленьку крадут эти ценные вещицы и рады-радешеньки. Доволен англичанин, довольны и они. Правда, белый человек приучен к честности и порой сердится, когда замечает пропажу… Врач встал.
— Вот и все, милый мой Лиас! Я знаю еще несколько таких историй! — И он, маленький и проворный, направился к двери.
— Странный старик! — засмеялся Лиас. — Каждый день пичкает нас своими историями…
* * *
— Поедешь завтра, — сказал Космасу Ставрос. — Генерал объезжает части и вернется утром. Так что к обеду будь готов. Ты здесь не новичок, о ночлеге позаботься сам, а утром ко мне.
Ставрос долго расспрашивал Космаса об Афинах и слушал, как слушает человек о свалившейся на него тяжелой беде.
— Тебе, наверно, в диковинку наши порядки, — сказал он потом Космасу. — Видал, какая идиллия у нас с этим Милом?
— Да, живете душа в душу… А между тем окажись Мил сейчас в Афинах, он не задумываясь стрелял бы в нас из-за танков.
— Душа в душу… — Ставрос горько улыбнулся. — Я тоже не сомневаюсь, что в Афинах Мил не преминул бы пустить в нас пулю. Но что прикажешь делать? Притворяемся, что ничего не понимаем…
Он посмотрел в темное окно и заговорил тем тяжелым голосом, который так хорошо знал Космас:
— Конфликт не должен разрастаться. Это все равно не даст ничего, кроме новых жертв. Рано или поздно придется пойти на соглашение — и не с кем иным, как с теми же англичанами.
Космас был уже в дверях, когда Ставрос спросил его:
— А Мила ты не видел?
— Нет.
— У него сегодня какой-то праздник, кажется, день рождения… Он пригласил наших офицеров. Почему бы и тебе не навестить старого друга?
— Я? Ни за что!
— Так я и знал! — засмеялся Ставрос. — А еще был дипломатом. Единицу тебе надо поставить по дипломатии…
Спускаясь по лестнице, Космас все еще слышал его невеселый смех.
Избежать приглашения, однако, не удалось. Когда Космас вместе с Лиасом вышел на площадь, навстречу им, радостный и оживленный, спешил Мил. Он сказал, что безмерно счастлив встрече с Космасом, как был бы счастлив встрече с однополчанином и соотечественником.
— Мне сказали, что ты приехал! Какое замечательное совпадение! Как будто специально ко мне в гости!
Если бы Ставрос поглядел на них из окошка, то, несомненно, повысил бы Космасу отметку. Припоминая былые дипломатические навыки, Космас сказал Милу, что очень рад встрече со старинным другом, что не забудет хлеб-соль, которую они делили на Астрасе, и что Мил, должно быть, тоже сожалеет об афинских событиях.
— Да, это очень печально, — согласился Мил. — Но об этом мы поговорим вечером или как-нибудь в другой раз. Я не сомневаюсь, что эти прискорбные разногласия скоро прекратятся. Сегодня вечером мы соберемся в дружеском кругу, и лучше не говорить на эту тему… Так ты придешь?
— Не смогу, Мил, я очень устал.
— Дружеская компания тебя только развлечет.
— Что он говорит? — поинтересовался Лиас. Космас перевел.
— Иди! Конечно, иди! — И Лиас повернулся к Милу: — Ies! Ies!
Мил удовлетворенно закивал головой.
— И вы тоже приходите!
— Скажи ему, что не могу. У меня насморк… Милу нетрудно было в это поверить; бросив беглый взгляд на влажный и, как всегда, пылающий нос Лиаса.
— Этот нос, — сказал потом Лиас, вынимая из кармана платок, — причинил мне в жизни немало огорчений, но, случалось, и выручал.
XII
Приглашенные пришли все вместе, когда уже стемнело. Темнело быстро, фонарей на улице не зажигали, и в распоряжении Мила были пятнадцать часов черной зимней ночи.
Мил встретил их в дверях, радушный и сердечный, но, к удивлению Космаса, выглядел он совсем не празднично и даже не переоделся. «А я-то, — думал Космас, — нацепил ради него галстук и взял у Лиаса единственную новую рубашку…» Комната, куда их привели, тоже имела самый будничный вид — ни праздничного стола, ни общества, ни одного букета цветов. Это была большая квадратная комната. Посередине круглый стол, диваны с мягкими подушками, буфет с вазами и чашками, блюдо с восковыми фруктами, на стенах семейные портреты, — примерно так выглядят гостиные всех двухэтажных богатых провинциальных домов. Недоумение Космаса разделяли и остальные гости.
— Не рано ли мы пришли? — взглянул на часы Вардис.
— Нет, не рано, ровно в назначенные полвосьмого.
— Стало быть, мы точны, как англичане, — заметил председатель районного совета ЭАМ, известный адвокат, бывший депутат парламента от партии либералов.
— Зато англичане…
Начальник милиции собирался сказать, что англичане нарушают свои же правила, но умолк на середине фразы. Он подозревал, что Мил прекрасно знает греческий.
— И гостей других тоже почему-то нет… Сплошные головоломки…
— Чей день рождения мы будем справлять? — поинтересовался мэр.
— Какой-нибудь высокой персоны, — отозвался Вардис. — Хотя черт его знает! Может, хозяин нарочно замутил воду, боялся, что ради него мы не придем! Тоже, конечно, странно!
Обмениваясь с Милом незначительными фразами, Космас старался подать товарищам знак. Мил, разумеется, не знал греческого, но вдруг за дверью кто-нибудь подслушивает? Эта внезапная мысль привела Космаса в смятение.
— Что говорят товарищи? — спросил Мил.
Последнее слово он произнес очень забавно, на ломаном греческом языке.
Все рассмеялись.
— Беспокоятся, не рано ли мы пришли.
— Нет, что вы! — Мил вынул из буфета коробки с сигаретами, спички, пепельницы.
— И еще товарищи удивляются, что не видят остальных гостей.
— А других гостей и не будет! Вчера уже был один тур праздника, сегодня второй — только с вами…
Космас перевел.
— Значит, сегодня у нас эамовский праздник, — пошутил Вардис.
— Совершенно верно, — заявил Мил, — эамовский. Смех развеял напряжение, и Космасу показалось невероятным, что за дверью могут подслушивать. Зачем?
Мил попросил прощения и вышел.
— Будем считать, что одна головоломка решена, — смеялся Вардис. — Но осталась вторая: кого мы сегодня чествуем? Кстати, есть еще одна — где остальные англичане?
— Да будет тебе со своими головоломками. — Добродушному толстяку председателю надоели подозрения. — Какое нам дело до того, кто придет? Мы выполняем долг вежливости. Нас пригласили — мы приняли приглашение. Об остальном позаботится Мил…
И Мил позаботился. Он открыл дверь и пропустил вперед двух итальянцев, которых Космас. знал еще с Астраса. Толстые и румяные, как и подобает поварам, они тащили подносы, переполненные бутылками и закуской.
— Бона сьера, камарадо! — поздоровался Космас.
— О! — обрадовались итальянцы. — Камарадо Космас!
Стол мгновенно заставили блюдами — салаты, сыры, жареные цыплята, мелкая стружка жареного картофеля. Итальянцы ушли и вернулись снова, они поставили подносы на мраморную стойку буфета — на столе ничего больше не помещалось. Потом проворно расставили тарелки и разложили приборы; тот, кто закончил первым, стоял и дружески улыбался Космасу.
— Коме стато?{[87]} — спросил его Космас.
— Бене, бене…{[88]}
К сожалению, на этом знания Космаса исчерпывались.
— Так ты знаешь и итальянский? — удивился Мил.
— Перед войной я начал его учить и кое-что уже смыслил. Но потом итальянцы пришли к нам оккупантами, я забросил занятия, и в памяти сохранилось только то, что ты слышал. Боюсь, что такая же судьба ожидает и английский…
— Что ты, что ты! — Мил сделал вид, что огорчился. — Но мы договорились не затрагивать сегодня эту тему!
— Да, да…
Они сели за стол, и Мил наполнил бокалы ярким розовым вином.
— Что же пожелать тебе, Мил?
— Нет! Не надо мне ничего желать. Давайте выпьем за греко-британскую дружбу! Пусть наши страны живут в дружбе и согласии, как и раньше.
— Пусть они впредь живут в дружбе и согласии! — воскликнул мэр. — Прекрасный тост, но до него еще не дошла очередь. Сегодня мы празднуем день рождения…
Мил с недоумением посмотрел на Космаса.
— Какой день рождения? — И тотчас засмеялся. — Это все переводчик! С тех пор, как уехал Стелиос, мы уже не раз попадали впросак из-за перевода. День рождения тут ни при чем. Просто-напросто я послезавтра уезжаю, и сегодня у нас прощальный вечер.
— Вот мы и покончили с последней головоломкой, — шепнул Вардис. — Что ж, событие отрадное…
— Ну и хорошо! — поднял бокал председатель. — Давайте выпьем за его здоровье и пожелаем ему доброго пути!
Они выпили залпом, вино было легкое и приятное, словно прохладительный напиток.
— И куда же направляется дорогой Мил? — спросил председатель, подхватывая вилкой салат.
— На родину! Семейные обстоятельства…
— Приятные?
— Приятные! — улыбнулся Мил.
Они выпили из той же бутылки за приятные обстоятельства, которые Мил, однако, не уточнил. «Какое нам дело? — говорил председатель. — Важно, что обстоятельства приятные!» Веселье разгоралось. Космас смотрел на лица своих товарищей, порозовевшие от вина и вкусного ужина, и вдруг внутренне содрогнулся: «Что мы здесь делаем?» У него было такое чувство, будто они совершали что-то очень скверное, чувство вины, смутное, неопределенное. Стало жарко, и мысли еле ворочались, такие же вялые, как и тело, которое постепенно погружалось в приятный наркоз, словно уходило в пышную перину, Космас сделал усилие, чтобы подняться, и вдруг обнаружил, что вялости как не бывало, он по-прежнему владел своим телом.
Вместе со всеми он выпил еще один бокал и про себя решил, что это последний. Мозг снова застыл. По жилам разливалось сладкое оцепенение, под отяжелевшими веками накипали теплые слезы. «Давно не пил, — размышлял Космас. — Ишь как меня разобрало. А на других вон ни капельки не подействовало». Другие с аппетитом закусывали. «Надо и мне!» Космас слегка покопался вилкой в тарелке. Есть не хотелось, хотелось пить. Хотелось чего-нибудь прохладительного. Он попросил воды.
— Не надо, — отсоветовал председатель. — Меня, брат, тоже мучает жажда, но лучше не пить.
— В чем дело? — поинтересовался Мил. — А! Тогда выпьем вот этого, оно утолит жажду…
Он наполнил бокалы белым вином. Оно действительно утолило жажду, но ненадолго. Мимолетная прохлада не погасила, зноя. В комнате стало душно.
— Ух, ну и жарища! — прохрипел председатель, вытирая потный лоб и распуская узел галстука. Лицо у него было красное, глаза сияли доброй улыбкой.
Рядом с председателем сидел мэр, он тоже улыбался и выглядел очень довольным. Начальник милиции и Вардис молчали и переглядывались, словно утомленные спорщики, которые, все уже высказали, не убедили друг друга и считают бесполезным продолжать спор.
— Ну и жара! — Председатель глубоко вздохнул и сразу почувствовал облегчение, как будто пронесся свежий ветерок.
Жара начала спадать. Космас тоже вздохнул и улыбкой ответил на счастливую улыбку сидевшего напротив мэра. Он повернулся к Милу, и тот тоже наградил его улыбкой. Потом Космас увидел, как Мил неверной рукой потянулся к тарелке с крабами, и, наблюдая за медленными, робкими движениями вилки, наперед угадал, что произойдет. И в самом деле дрожащая рука англичанина повисла в воздухе, а потом тяжело упала на тарелку. «Опьянели», — подумал Космас и перевел взгляд на Вардиса, который с закрытыми глазами покачивался на стуле.
В комнате было тихо, в ушах звенело. Сквозь опущенные ресницы — глаза его слипались — Космас увидел Мила, который вставал, опрокидывая на пол тарелки и бокалы.
«Куда ты?» — хотел спросить его Космас, но сам не расслышал своего голоса. Хотел удержать, но рука не послушалась.
Мил, шатаясь, шел к двери. Дверь отворилась, и англичанин рухнул за порог. В коридоре послышались беготня, приглушенные голоса. «Попались!» — мелькнула страшная мысль. Космас сунул руку в карман и нащупал браунинг. Напротив него обеими руками расстегивал кобуру револьвера Вардис…
Через упавшего Мила шагали какие-то люди, комната ощетинилась дулами револьверов. «Попались!» — снова подумал Космас и зажал в руке холодную сталь браунинга. Это отрезвляющее прикосновение вдохнуло в него силы, Космас стиснул зубы и выхватил из кармана револьвер. По другую сторону стола боролся Вардис, чья-то грудь заслонила его, а рука Космаса оказалась в тисках чужих сильных, энергичных пальцев. Он понял, что обезоружен, но не сдался, а, наоборот, упрямо уперся ногами в пол и бросился на врага. Что-то тяжелое ударило его по голове, в глазах засверкали разноцветные лучи. «Попались!» — в третий раз подумал Космас и упал в бездонную темноту.
XIII
Трое эласитов сидели на лавочке у Благовещенского собора на окраине Астипалеи. Они ждали, не появится ли на шоссе машина и не подбросит ли их в деревню Дунаитика километрах в двадцати от города. Ночь была холодная и дождливая. Стена собора и черная стена кипарисов защищали их от дождя и ветра. Время от времени один из бойцов выскакивал на дорогу — посмотреть, не видно ли машины.
Они давно уже ждали и отчаялись дождаться.
— Пошли! — сказал один из них. — Зря время теряем…
Он встал со скамеечки, перепрыгнул через канаву и вышел на дорогу. Там он подождал товарищей, расстегнул шинель, спрятал на груди «томпсон», чтобы не промок. Этот эласит, высокий, широкоплечий парень, был комиссар взвода Фантакас. Он вечером пришел в Астипалею и теперь вместе с двумя своими бойцами возвращался обратно.
Они уже далеко отошли от церкви, когда со стороны города послышался шум мотора. Потом за кипарисами показался свет фар.
— Английская! — почти в один голос сказали трое.
За первой машиной на коротком расстоянии мчалась вторая, фары ее светили тускло, то зажигались, то гасли.
— Две машины! Тем лучше! Больше надежды, что посадят!
И Фантакас вышел на середину дороги.
Сильный свет фар первой машины упал на него, пронизывая густую строчку дождя. Машина приближалась, шофер загудел — он не собирался останавливаться. Однако Фантакас не сдвинулся с места, он стоял, словно высокое дерево, и махал рукой. Машина, не сбавляя скорости, неслась прямо на него; ослепленный фарами Фантакас отпрыгнул к обочине.
— Эх, черти!
Вторая машина с погашенными фарами тоже стрелой пронеслась мимо и обдала его грязью.
— Вот как пальну!
Он поднял «томпсон», но не выстрелил. Вытирая с лица грязь, он вместо пуль послал вслед машинам крепкое ругательство и снова засунул автомат пол шинель.
— Пошли, ребята! Кто знает, что они там везут!..
И трое партизан, ускоряя шаг, пустились в путь под проливным дождем.
* * *
Сорокакилометровая дорога от Астипалеи до центрального шоссе, как и все провинциальные дороги, была в ужасном состоянии. Когда на полях переполняются арыки и дорогу заливает водой, колеса то и дело проваливаются в невидимые глазу ямы, и вся машина сотрясается, того и гляди развалится на части.
При одном из таких толчков Космас очнулся. До этой поры шум и тряска автомобиля долетали до него смутно. Теперь он отчетливо слышал, как скользили по жирной грязи колеса, слышал, как ветер плескал на брезент пригоршни дождя, и чувствовал, как прыгает кузов, как прыгает в кузове его собственное тело. Ноги были ледяными, голова раскалывалась. С каждым ударом о днище кузова эта боль становилась все сильнее. Космас подобрал ноги и попробовал встать.
Чья-то рука торопливо ощупала его грудь и ухватилась за плечо, к уху прильнули чьи-то губы. Рядом с Космасом лежал Вардис.
— Тихо! Не шуми!
Космас еще не разглядел английского солдата, который сидел у другого борта, и не знал, что за грузовиком едет еще одна машина. Вардис очнулся раньше. Он заметил, что свет фар второго автомобиля время от времени попадает к ним в кузов, заметил и англичанина с автоматом. И он придумал, как завершить это путешествие, раньше чем его на свой лад завершат англичане. До того, как их привезут в окружной центр… Вардис не сомневался, что их везут туда в качестве заложников.
— На шоссе мы еще не выехали, — прошептал Вардис. — В первой же деревне надо разоружить солдата. Надо остановить машину.
В нескольких километрах от моста, который они только что проехали, находилась деревня Дунаитика. Там возле самого шоссе стоял клуб, в эту ночь в клубе должна была собраться на праздник молодежь окрестных деревень.
Вардис еще объяснял Космасу детали своего плана, когда кузов грузовика вдруг осветился от яркой и короткой вспышки. Раздался выстрел. Барабанил по брезенту дождь, ревел сильный мотор автомобиля, и выстрел прозвучал как треск сломанной ветки. «Газует!» — подумал Космас, но тотчас уловил терпкий запах пороха и какое-то движение в кузове, чья-то тень шевельнулась и стала подниматься. Окошко кабины разбилось, осколки стекла посыпались прямо на голову. Космас закрыл глаза и услышал второй выстрел. Задняя машина зажгла фары, и кузов осветился. Прямо над головой Космаса во весь рост, с револьвером в руке, стоял начальник милиции. Сзади на корточках сидел председатель районного совета, белый как полотно, с огромными от страха глазами. У его ног, раскинув руки, лежал английский солдат. Фары погасли и снова зажглись. Космас еще раз увидел эту немую, белую, точно мраморное изваяние, картину; ослепленные ярким светом глаза слезились. Он попытался подняться. Рука Вардиса с силой удержала его на месте. С задней машины дали автоматную очередь. Фары погасли, снова воцарилась тишина. И в ту же минуту Космас почувствовал, как на него свалилось чье-то тело, сначала мягкое, потом твердое и тяжелое. Это был начальник милиции. Космас постарался освободиться от нарастающей тяжести, плечо его пропорола острая боль, а рука нащупала теплую, мокрую рану.
Грузовик все мчался. Он ехал, вихляя из стороны в сторону. Космас слышал, как ругался Вардис, тоже пытавшийся сдвинуть тело убитого товарища.
— Как ты там? — спросил Космас. — Я ранен…
— И я! Но боюсь, что худшее еще впереди… Шофер, кажется, тоже ранен.
Не поднимаясь с полу, Вардис стучал по кабине и орал: «Стой!» Машина не останавливалась.
— Только бы добраться до деревни, — сказал Вардис, на ощупь разыскивая автомат убитого англичанина.
…А Космас, чувствуя, как взмокла у него спина, старался выбраться из-под давившего его тела и подползти к окошечку кабины. Внезапно он ощутил необычайную легкость, тяжелое тело вдруг соскользнуло, будто кто-то поднял его сильными руками… Казалось, машина тоже поднимается, взлетает в воздух и падает обратно.
Потом он почувствовал, как в кузов хлынула вода. Ему чудилось, что он скакал в седле, но почему-то повис в воздухе, а лошадь умчалась дальше.
— Падаем! — услышал он издалека голос Вардиса.
* * *
Еще не рассвело, когда Фантакас и его товарищи добрались до того места, где перевернулся английский грузовик. Он съехал с дороги, левые колеса увязли в залитой водой канаве, правые висели в воздухе.
На дороге они нашли английского солдата. Он был мертв. Мертв был и шофер, выброшенный из кабины под вздернутые колеса.
— Это они нас не посадили, — сказал один из партизан. — Посмотрим, что они везли.
Из темного кузова послышались стоны. Спички у партизан намокли. Им пришлось обшарить кузов. Там они обнаружили пять свалившихся в кучу тел.
Бойцы расстелили свои намокшие шинели. Дождь перестал, но темнота еще не рассеялась, и в мутном предрассветном полумраке они так и не разглядели, кто же эти бедняги.
Со стороны деревни, которая была совсем уже близко, послышался шум автомобиля.
— На дорогу! — крикнул Фантакас. — Если не остановится, стреляй по шинам!
Автомобиль остановился, из кабины вышел генерал. Его связной достал электрический фонарик и осветил окровавленные, залитые грязью лица.
XIV
На другой день Астипалея хоронила начальника милиции. Было ясное зимнее утро. Тысячи людей следовали за гробом, и на кладбище еще раз прозвучал героический и скорбный гимн. Когда отгремели выстрелы салюта, последней воинской почести павшему партизану, в воздух взметнулись кулаки, и люди закричали: «Возмездие!» Но кому? Среди официальных лиц за гробом шагал шотландец, преемник Мила. Высокий, в клетчатой юбочке, с печальным лицом.
В военном госпитале Астипалеи консилиум врачей объявил, что мэр и председатель почти не пострадали, майор Вардис выживет, а Космас, по-видимому, продержится всего лишь несколько часов.
— Очень славный был юноша, — слушал Вардис врача, сидевшего у соседней кровати. — И много ему пришлось перестрадать. Весной я ампутировал ему руку без хлороформа, даже не хирургическим ножом. И он ни разу не застонал, крепкое было сердце.
Время от времени он прикладывал трубочку к груди Космаса и слушал слабое биение угасающей жизни. Он предложил Вардису перейти в другую палату.
— Нет! — отказался Вардис. — Я останусь с ним… Я тоже полюбил этого паренька…
— Да, да…
Врач попытался поймать пульс в безжизненном запястье. А потом сквозь горячку Вардис услышал, как он тихо и горько произнес:
Со славой бились вы, со славой пали,
Неустрашимые, вы всюду побеждали,
Невинны вы, коль битву проиграли
Диэй и Криптолей.
И скажут эллины, гордясь страной своей:
«Таких она рождает сыновей!»
И нет для вас хвалы достойней.
Он чуть не плакал.
— Умер? — спросил Вардис.
Врач вздрогнул, прислушался.
— Нет! Бьется мужественное сердце…
Вардис молчал и слушал дыхание раненого — оно то учащалось и напоминало предсмертный хрип, то ослабевало и таяло. Врач тоже молчал.
— Чьи это были стихи? — вдруг спросил Вардис.
Врач опять вздрогнул.
— А, стихи… Одного нашего соотечественника из Александрии…{[89]}
Начертаны рукой ахейца в Александрии, в седьмой год царствия Лафира-Птоломея.
«Заговаривается», — с сочувствием подумал Вардис, Лампу в палате не гасили, пока она не догорела сама. На рассвете Вардис проснулся и заметил, что врача нет. Он посмотрел на Космаса, прикрытого одеялом, приподнялся на локтях, прислушался. Космас дышал. «Приснилось, наверно», — подумал Вардис, успокоенно вздохнул и лег.
Зашла Кустандо.
— Где врач? — тихонько спросил он ее.
— Ой! — Кустандо вытерла опухшие от слез глаза. — Врач говорит, может, выживет.
— Что же ты тогда плачешь? Радоваться надо!
Кустандо приподняла одеяло, посмотрела на обескровленное лицо Космаса.
— Ох, неужто пропадет такой молодец! — прошептала она и уткнулась лицом в свой белый передник.
Много дней и ночей бодрствовала в этой палате добрая крестьянка, во второй раз отстаивая жизнь Космаса. Никогда еще не видели ее в слезах. За минувшие годы Кустандо тоже научилась бороться скрепя сердце. Но сегодня показался первый, слабый лучик надежды, и она не удержалась, выбежала в коридор выплакать накопившиеся слезы.
«Это уже слезы радости! — подумал Вардис. — Видно, и на этот раз Космас выкарабкается…»
В эту ночь Космас шагнул назад от смерти, перевалил, еще одну вершину своей маленькой, но скалистой, как Астрас, жизни. Еще много дней он лежал без памяти, но «Кавомалеас»{[90]}, заявил врач, остался уже позади. Впереди спуск, тоже, конечно, опасный, но мы все-таки спустимся — потихоньку-помаленьку… Космасу не привыкать к горным тропам, не в первый раз…»
И, чувствуя за собой вину в том, что в критическую ночь вычеркнул Космаса из жизни, врач счел необходимым пофилософствовать:
— Из всех героев человеческий организм самый упорный и мужественный и не сдается до последнего. Сражается и знает бездну выходов — неизмеримо больше, чем знаем мы, врачи. Вот и теперь мы опять выживем.
— Вопреки предсказаниям врачей, — поддел его Вардис.
Врач язвительно улыбнулся.
— Дорогой друг, вам не стоит острить на наш счет. Из всех категорий населения только учителя и военные не имеют права не уважать врачей.
— Почему же?
— Относительно учителей существует пословица, которая утверждает, что не будь учителей, самыми глупыми оказались бы врачи. Итак, народная мудрость отдала нам некоторое предпочтение. Что же касается военных, то они намеренно добиваются того, что мы, врачи, совершаем только по ошибке!
Врач, торжествуя, удалился, а Вардис с улыбкой вынужден был признать, что старик прав. «Мы убиваем, когда хорошо знаем свое дело, а врачи — наоборот…»
* * *
Четвертого января закончились бои в Афинах. Четвертого января майор Вардис покинул госпиталь. Его полк несколько дней назад передвинулся в Аттику, чтобы прикрыть отступление. У майора еще не спала температура, рана не закрылась, и он сбежал без разрешения врача.
— Ну, будь здоров, — обнял он на прощание Космаса. — Надеюсь, ты тоже скоро поправишься и встанешь на ноги.
— Я тогда прямо к тебе…
— Обязательно.
Пролетело еще несколько дней, и Космас сделал первые шаги по палате. Он чувствовал, как быстро возвращаются к нему силы, словно воды, преодолевшие преграду и с особым рвением продолжающие путь. Каждый день его навещал кто-нибудь из друзей — Леон, Элефтерия, Бубукис, штабные офицеры. Однажды утром дверь отворилась и, низко наклонив голову, через порог шагнул Фантакас, а следом за ним показался еще один посетитель — Фокос.
— Ну что это за беда? — теребил бороду старик. — Ну что за напасть такая? И как это я недоглядел!
Космас смотрел на него с улыбкой.
— Я, конечно, разгадал, что на уме у него недоброе. Я ждал, что он подложит нам под конец свинью.
— Ну и здоров ты врать, старик! — смеялся Фантакас.
— А ты лучше помолчи! Не для тебя эта грамота. Можешь ты прочитать буковки с игольное ушко? То-то! И разобраться в политических тонкостях тоже не можешь! Так что сиди и слушай, что старшие говорят. И помалкивай. Такой верзила, а упустил подлецов из-под самого носа!
Фантакас покраснел и признал свою ошибку.
— Ну ладно, — сказал Космас, — прошляпили мы. Наперед будем умнее.
— Ясное дело, — согласился Фокос. — В политической борьбе такие промахи бывают.
Он встал и обошел палату.
— Ну а как ты себя чувствуешь? Хорошо ли за вами смотрят? Теплое белье дают?
Он ощупал одеяла, простыни.
— Столько добра отпустил я этому госпиталю! Надеюсь, раненые не мерзнут? А рыбу вам дают? Какую?.. Не знаешь? А-а! Никогда не ешь рыбу, если не знаешь, что это за рыба. У рыбы есть особенность: как в море она дается только опытному и толковому рыбаку, так и в кастрюльке или на сковородке она не отдает все свои прелести первому попавшемуся. Учти — рыба зевак не любит, ей подавай ценителя… Но тут, в госпитале, — старик покачал головой, — что за рыбу вам могут подать и кто ее приготовит?
Он вдруг умолк и принял мужественное решение:
— Завтра я принесу тебе рыбу! Запеку ее с оливковым маслом, с лимоном, с зеленью. А может, добуду и осьминога. Но если будет осьминог, то не обойтись и без вина: съесть-то ты его съешь, а переварить не сможешь! Знаешь небось историю…
И Космас услышал забавную историю про маленького и неопытного осьминога, который попал в руки рыбаков и жалуется матери:
— «— Мама, меня поймали!..
— Не бойся, сыночек!
— Мама, меня бьют о камень!
— Не тужи, родимый!
— Мама, меня режут на куски!
— Пусть режут.
— Мама, меня жарят на огне!
— Пусть жарят!
— Мама, они вино пьют!
— Ох, сыночек, теперь уже все пропало!»
Космас не верил, что старик придет, но щедрые обещания возбудили у него аппетит. Ему до смерти хотелось печеной рыбки с лимоном или на худой конец осьминога с вином. И хотя Космас знал наверное, что старик обманет, все же на другой день он с нетерпением оглядывался на скрип двери. Старик, разумеется, не явился.
* * *
Был полдень, вместе с другими выздоравливающими Космас сидел во дворе, когда в чистом и ясном небе появилась цепочка самолетов. По гулу Космас определил, что самолеты летят с грузом.
— Летят как для бомбежки! — сказал он товарищам.
Наивные астипалеоты недоверчиво переглянулись. Они стояли, смотрели на самолеты и рассуждали, что летят они слишком высоко и, конечно, не для обстрела. На улицах толпились беззаботные зеваки. Прикрыв глаза от солнца, они глядели на небо, как вдруг оттуда на них посыпались бомбы.
Потом пролетела еще одна цепочка. Жалкие деревянные домишки и хижины вспыхнули, словно их облили керосином. В госпиталь свозили жертвы — переполнялись палаты, коридоры, двор…
«Надо и мне бежать», — решил Космас и потихоньку, как Вардис, покинул госпиталь.
Город стал неузнаваем: холодный и чужой, с разрушенными домами, с толпами беженцев, которые и день и ночь прибывали из Аттики. Дивизия, кроме штаба и газеты, оставила Астипалею и сражалась с англичанами. Здание, где раньше располагалось командование, занимали теперь беженцы, только на втором этаже несколько комнат сохранились еще за штабом — там командовал Леон. Во время бомбардировки Леона ранило в руку, и теперь он держал ее на перевязи. Дел и хлопот у него было много, и он уже не слишком заботился о своей внешности. Космас застал его в запущенной полуразрушенной комнате, беспокойного, деятельного, энергичного, и ему показалось, что он снова повстречал своего друга по афинскому подполью, скромного Телемаха.
— Может, выпьем кофейку? — поддразнил его Космас.
— Сию минуту, — с готовностью согласился Леон и вытащил из стола кофейник, банку с кофе, спиртовку и алюминиевые стаканчики.
— Все еще целы?
— А как же! Если даже до тюрьмы докатимся, то и там я обеспечу тебя кофе!
— Думаешь, докатимся?
— Ничего невероятного в этом нет. — Леон зажег спиртовку. — Вопреки нашей теории, мы проявили себя крайними идеалистами или что-то в этом роде, я еще как следует не разобрался. А ты что собираешься делать?
— Поеду к Вардису.
— Погоди, ты еще очень слаб. Обожди здесь хоть несколько дней, а там, глядишь, вместе поедем.
XV
По центральной улице рядом с площадью непрерывно тянутся скорбные караваны беженцев — женщины, старики и дети, изнуренные, больные.
Среди них Космас увидел парня, который показался ему знакомым. Он плелся в толпе женщин и детей и, увидев Космаса, тоже остановился.
— Может, мы виделись в Афинах? — неуверенно спросил Космас.
— Ну конечно! Ты работал в редакции «Свободы»? Только тут Космас вспомнил его как следует. Этот парень с группой художников раза два или три заходил в редакцию незадолго до отъезда Космаса в Астипалею.
— Будто сто лет прошло! — Парень подошел поближе и протянул Космасу руку. — А я стою и смотрю — вроде знакомая физиономия. Прости, но узнал я тебя только по руке…
— Иди сюда, — взволнованно проговорил Космас и затащил художника на площадь. — Рассказывай, как там остальные? Где они?
— Не знаю. Во время отступления я оказался на Патисиа, оттуда мы попали в Парнифа, а куда занесло остальных, понятия не имею.
— Когда ты в последний раз видел Спироса?
Лицо художника сразу омрачилось.
— Лучше не спрашивай о Спиросе… Такое горе… Помнишь его дочь?
…И этот юноша, который мог пройти на две минуты раньше и не увидеть Космаса, сам того не подозревая, трагически ворвался в его жизнь. Космас слушал, первые слова он разобрал отчетливо, но потом голос художника стал твердым, как металл, и вместо слов Космас слышал гул и скрежет, как будто сыпалась галька в высохшее русло реки. Космас поднял руку, чтобы ухватиться за ветку перечного дерева, одного из тех, что окружают площадь, но дерево покачнулось и рухнуло…
* * *
— Янна была революционеркой, и она пала, выполняя свой долг. Поэтому, Космас, мы не должны ее оплакивать, мы должны чтить ее память действием, борьбой…
Всю эту ночь Космас и Лиас не спали. В такие минуты Лиас был не очень подходящим товарищем. На все случаи жизни он припас решения и выходы, и смерть дорогих и близких людей тоже была для него событием, через которое нужно пройти достойно и выйти еще более сильным. Поэтому Космас не слушал, что говорил в эту ночь его старший друг, он делал вид, что слушает, и думал о своем. Он думал о тех подробностях. О тех ужасных подробностях, которые рассказал ему художник…
Трагическое известие свалилось на него, тяжелое и непостижимое. Как при внезапном ударе, сознание и острая холодная боль пришли позднее. Пришла мука воспоминаний — какие-то жесты, слова, сказочные картины, которые они успели нарисовать и не успели создать, ее взгляд, еле уловимые черточки, которые несли такую тоску, такое страдание и заставляли понять, что это все-таки произошло. Они вспыхивали и разжигали память, мысли и чувства, которые не в силах были выдержать напряжения и болели, как кровоточащая рана.
— Когда мы теряем дорогого человека, — продолжал говорить Лиас, — обстоятельства его смерти кажутся нам трагичными, каковы бы они ни были. Если он погибает на чужбине или на войне и ты не знаешь, где его могила, если в числе других ста его расстреляли или превратили в пепел в нацистском лагере… Сколько людей нашли такую смерть на войне! И обстоятельства…
Космас прислушался. То, что сейчас говорил Лиас, перекликалось и с его мыслями.
— Все эти обстоятельства очень трагичны, и когда думаешь о них, испытываешь двойную боль, еще больше бередишь свою рану. Но помимо обстоятельств гибели смерть революционера имеет еще свой, особый смысл — так я по крайней мере думаю. Это жертва, и очень важно знать, готов ли к ней человек, который жертвует собой. Была ли у него решимость принести эту жертву или просто случайная пуля… Космас понял.
— Да, да, — пробормотал он и вернулся к своей думе.
Лиас замолчал и ласково взял Космаса за руку.
— Я вижу, ты меня не слушаешь! — сказал он с грустной улыбкой.
Первый раз Космас видел на лице Лиаса эту улыбку и первый раз слышал от него что-то похожее на обиду.
— Да, — признался он, — я задумался…
— Я говорю это потому, что переживаю сейчас что-то похожее на твое горе, у меня тоже случилась беда… — Лиас замолчал, но прежде, чем Космас успел спросить, добавил: — Эти гады убили мою мать…
Незнакомый, тихий и очень надломленный голос Лиаса открыл Космасу новую сторону в его жизни: у Лиаса тоже была мать, дом, семья… Космас вскочил и крепко сжал его руку.
— Они вытащили ее из дома, восьмидесятилетнюю старуху… Ее застрелили во дворе, но сначала замучили на ее глазах мою сестру, мать двух малышей. Это было в Эпире в начале декабря, но узнал я об этом только вчера. Я не стал бы тебе этого говорить, зачем говорить о таких печальных вещах… К тому же у тебя самого горе побольше моего… Но сейчас я все-таки решил сказать, чтобы ты лучше понял мою мысль. Сестру мою, молодую женщину, что оставила двух сирот, я не оплакивал. Смерть ее была жуткой. Чего только с ней не делали, пока не застрелили, но она держалась и умерла как героиня. Она не испугалась и не сделала того, что от нее требовали, не отреклась от меня и от мужа, который воюет в Эпире комиссаром роты. Ее я не оплакивал, как не оплакивал стольких героев, которых мы потеряли. А вот мать… Ее я оплакивал и до сих пор еще плачу… Послушай, почему…
Старушка была разбита параличом, ум у нее уже давно повредился. Ничего она не понимала и ничего не слыхала — глухая. Эти дикари ей кричали, а она не понимала. Рассказывали мне, приложила она к уху ладонь и все спрашивала: «Чего? Чего? Не слышу…»
Лиас был в слезах.
— Не надо, — сказал Космас, — не будем об этом… Воздух был тяжелый и раскаленный. Космас подошел к окну, распахнул его и стал смотреть в темноту, которая текла, как река, и увлекала за собой его мысли. И он не устоял, и мысли его снова потонули в темноте и растворились в ней, как растворяется в мутном море пригоршня мутной воды.
Космас оглянулся. Лиас неподвижно лежал на кровати и смотрел в потолок. «Много видел он в жизни и много перенес, — думал Космас. — Много горечи он изведал, и итог его жизни — это его мужество, он выстоял, как подобает мужчине».
Он снова обернулся к окну, заглянул в густой мрак, и перед ним снова возник кошмар, рассказанный художником.
— Чего же ты молчишь? — спросил он Лиаса. — Говори что-нибудь…
— Хорошо, — с готовностью откликнулся Лиас. — Но что тебе сказать? Я говорю все одно и то же, а вам, молодым, это скучно. Я вас понимаю, это в природе вещей, но что я могу тебе сказать, если не то, что думаю, во что верю? Люди падают, такова их судьба, но жизнь не останавливается и шагает по бесконечной дороге. Мудрые люди говорят, что ничего в этом мире не пропадает, не пропадет даром и кровь наших товарищей, она обретет новую жизнь в плодах, взращенных их жертвой. Это все равно что семена, которые падают в землю и дают новые побеги…
— Да, — согласился Космас, — только этим и можно утешиться, иначе спятишь с ума…
— Иначе не бывает, — убежденно говорил Лиас, будто он сам установил этот порядок. — Жертвы приносят плоды рано или поздно. Важно, что приносят, как каждый год приносят красные плоды кумарьес в моей деревне Аи-Марина на склоне Мурганы. И пусть набросятся на нас сто Англии, а кумарьес все равно заалеют, Я верю в это, как верю, что я Лиас из деревни Аи-Марина на склоне Мурганы…
Космас первый раз слышал об этой горе, но сразу представил, что Мургана такая же высокая и гордая, как Астрас, как все горы его родины… И он почувствовал, как в жизнь его снова входят горы, словно мужественные и сильные товарищи.
— Так и должно быть, — сказал Космас.
— Так и есть, — еще увереннее прозвучал голос Лиаса. — И как знаю я все, что мною прожито, знаю и то, что осталось впереди.
XVI
Снова Астипалея выглядит как военный лагерь. Площадь переполнена народом, гремят крики:
— Оружие! Все на Фермопилы!
Только что по городу разлетелась весть, что партизаны кавалерийской бригады задержали англичан в Фермопильском ущелье.
— Оружие! — требовали юные астипалеоты, собравшиеся перед зданием штаба.
Космас поднялся к Леону.
— Я уезжаю. Или, если хочешь, давай сформируем роту и пойдем вместе.
— А как со здоровьем?
— Прекрасно…
Леон взял его за руку, и они вместе прошли в соседнюю комнату, битком набитую молодыми активистами Астипалеи.
— Вот вам командир! — крикнул, перекрывая шум, Леон.
Парни и девушки закричали еще громче:
— Дайте нам оружие! Мы выступим немедля…
В военном деле они были совсем неоперившимися новичками, и Космас запросил в комендатуре несколько опытных партизан, чтобы составить костяк роты, которая еще до того, как была создана, получила название «Леонид». Вечером на пустыре за площадью прозвучала первая военная команда.
— А ну-ка, беглец, иди сюда!
Космас оглянулся. Прямо к нему направлялись врач и Лиас.
— О! И слышать ничего не хочу! — заранее запротестовал Космас.
— А я и не собираюсь ничего говорить! — парировал врач. — Я пришел послушать. Куда это собирается великое войско?
— Как дела, Космас? — спросил Лиас. — Хватит ли у тебя силенок? Доктор полагает…
— Я чувствую себя великолепно, считайте, что меня здесь нет, я уже на Фермопилах…
Честь вечная всем тем, кто в буднях жизни
Воздвиг и охраняет Фермопилы, —
продекламировал врач, но таким тоном, будто хотел пожурить их за неосмотрительность.
Космас еще раньше заметил, как естественно звучат в устах доктора стихи Кавафиса, они жили в его крови, в его душе старого, неисправимого скептика. Он произносил их тихо, задумчиво. Так мудрые деды с мягкой улыбкой на губах делятся с молодежью горьким опытом жизни.
Кто, долга никогда не забывая… —
продолжал доктор, а Космас думал, что, вопреки стараниям старика, стихи звучат оптимистично и явно гармонируют с героической атмосферой дня.
Тем большая им честь, когда предвидят
(А многие предвидят), что в конце
Появится коварный Эфиальт
И что мидяне все-таки прорвутся.
Эти строки вызвали у Космаса протест.
— Нет! Не прорвутся! Это пораженчество, дорогой доктор!
— Пораженчество? Такой ярлык не для меня. Наоборот, я заслужил большей чести: в числе многих других я предвижу, что мидяне прорвутся, ведь эфиальты давно уже объявились, и все-таки я охраняю свои Фермопилы… Что с того, если мидяне прорвутся? Разве не прорвались в 480 году до нашей эры персы и в 1200 году крестоносцы или в 1941 году немцы? Однако за кем осталась победа?
— И все-таки они не прорвутся! — настаивал Космас. Ведь завтра он сам вместе с другими бойцами «Леонида» встанет на Фермопилах против этих мидян…
* * *
— Сбор завтра в пять утра на пустыре! — объявил Космас своим новым товарищам по оружию. — Иметь при себе одеяло, ложку, вилку, котелок или алюминиевую тарелку и продовольствие, сколько найдется и сколько можете унести…
— Какое там еще продовольствие! — горячилась молодежь. — Ты лучше раздобудь нам патронов…
Однако в назначенный час все явились с одеялами, ложками и вилками и кое-какими съестными припасами. Рота была готова к выступлению, пожалуй, последняя и самая молодая партизанская часть, которая прожила лишь несколько часов. В полдень вместо обещанных грузовиков пришло известие о том, что военные действия прекратились и заключено перемирие…
Через два дня в Астипалею вернулось командование дивизии. Где-то велись переговоры…
* * *
— Заглянул бы ты в церковь, — попросил Космаса Леон. — Посмотри, что можно для них сделать.
— Для кого?
— Здесь, недалеко от Астипалеи, есть лагерь заложников. Наши освободили оттуда женщин и всех тех, кто пострадал невинно, и теперь они нашли убежище в церкви. Мы поручили одному офицеру распределить их по домам, но в суматохе его куда-то отослали, и дело осталось без глазу. Сходи узнай, как они там… Согласен?
Уже смеркалось. Космас поднялся по лестнице и открыл дверцу алтаря. В церкви было темно, воздух сперт от горячего дыхания. Тихо гудели голоса, надрывался старческий кашель. Космас сделал несколько шагов, на кого-то наступил, выслушал сердитое ругательство. «Что же делать? — подумал он. — Ничего не видно. Приду завтра с утра…»
Он закрыл за собой дверь. По ступенькам поднимались две женщины. Космас обернулся и оказался прямо перед ними. «Добрый вечер!» Он поклонился и уступил им дорогу. Но одна из женщин вдруг вскрикнула и отшатнулась, спрятав лицо за высоким воротником.
Космас подошел к ней.
— Кто вы? Почему вы от меня прячетесь? Женщина прильнула к стене, втянула голову в плечи.
— Кто вы? Кто вы? — снова спросил Космас. Тогда она решительным движением опустила воротник.
— Пройти меня, Космас! Я верю, ты не причинишь мне зла.
Перед Космасом стояла незнакомая пожилая женщина. Теряясь в догадках, он вглядывался в ее черты и слушал, как рядом бормотала молитвы вторая женщина, ее подруга.
— Я не узнаю вас! — вынужден был признать Космас.
— Ничего удивительного.
Космас видел, с каким усилием к ней возвращались спокойствие и хладнокровие, как на ее лицо снова ложилась печать достоинства, словно румянец после мертвенной бледности, вызванной волнением. «Госпожа Георгия!» — мелькнула наконец догадка.
— Да, — услышал он ее голос, — госпожа Георгия. Голос прозвучал неохотно и устало, голос разбитого, несчастного человека, измученного своими страданиями и страданиями других. Никогда не испытывал Космас к этой женщине тех недобрых чувств, которые испытывал к ее мужу или сыну, и сейчас, увидев ее здесь, бездомную и измученную, проникся к ней глубоким сочувствием: она ни с кем не воевала, ни на кого не нападала, за что же ее бросили в этот водоворот войны и страданий? Госпожа Георгия глотала душившие ее слезы. Космас подал ей руку, усадил на ступеньку.
— Я видела тебя позавчера… Но что скрывать? Я не хотела, чтоб ты меня узнал. Я знаю, Джери и его друзья причинили тебе много горя…
Она подняла глаза, увидела пустой рукав его пиджака, застонала и снова заплакала.
— И ты много пережил, мой мальчик, и мы много пережили…
Она вынула черный платочек и вытерла глаза. Ее старое пальто, как видно, было с чужого плеча.
— Мужа моего больше нет в живых. Он не был таким дурным, как вы думаете, и Джери тоже не дурной, Космас. Все люди не дурные… Время сделало дикими и их, и вас…
— Где вы теперь живете, госпожа Георгия? Она снова застонала.
— Здесь, на алтаре. Нас человек пятьдесят. Все больные. Мы мерзнем, у нас нет ни крошки…
— Сегодня уже поздно, — сказал Космас, — но завтра мы непременно что-нибудь придумаем. А вы подождите меня здесь, госпожа Георгия, я скоро вернусь.
По просьбе Космаса госпожу Георгию и ее подругу, сестру какого-то полковника, поселил у себя дома один из юных бойцов «Леонида». На другое утро начали устраивать остальных. На это ушло много дней и много сил. История каждого из тех несчастных, что лежали на холодном каменном полу церкви, была глубоко драматична. Космас и не подозревал, что на том берегу тоже разыгрывались драмы. И это было очень горько — видеть, что, сам того не желая, причинил другим зло. Это очень горько, если ты никому не хочешь вреда, если жертвуешь собой ради других и эти другие вытесняют тебя из твоей жизни, из твоих мыслей, из твоей души… И ты тоже невольно обижаешь невинных, сеешь слезы, причиняешь боль…
Это была ответная мера, предпринятая после того, как англичане опустошили целые кварталы и увезли безоружных мирных жителей в страшные лагеря, разбросанные в песках Африки, между Египтом и Конго. «Необходимость самозащиты» — называли эту меру в коммюнике, «зло проклятого времени» — сказала госпожа Георгия. Старик офицер, которого Космас поднял с ледяного пола, проговорил со вздохом:
— Я, сынок, не держу на вас зла, хотя по отношению ко мне ваши поступили неблагодарно. В оккупацию я не раз оказывал подпольщикам финансовую поддержку. Но зла я не держу, я знаю, что такое война. Одно обидно — снова за нас распорядились чужестранцы. Опять нас поссорили и урвали себе кусок….
XVII
После многодневного ожидания однажды вечером пришел конец. Сначала — известие, что в одной из вилл Варкизы, километрах в тридцати от Афин, подписано соглашение. Потом — приказ Центрального комитета ЭЛАС и Генерального штаб, последний приказ по независимой дивизии «Астрас».
…Возле казарм, на самой верхней окраине города, огромной буквой «П» выстроились партизанские части. Знамя. Ряд выставленных вперед винтовок. Закат. Красное медлительное солнце спускается на белые вершины. На трибуне генерал, комиссар. Отзвучали трубы. Старый начальник штаба зачитывает прощальный приказ: «…Вооруженная борьба заканчивается. Пришел час сдать славное оружие. Начинается эпоха мирной борьбы… Дорогие друзья! Вы надежда нации!..» Потом парад, последний.
Оружие они сдадут после, сначала оформят какие-то технические детали, и приедут те, кто примет оружие, — представители правительства. Кадровых офицеров срочно вызывали на сборы. На другой день майор Вардис прощался со своими бойцами.
— Добрый путь, товарищ майор! — пожимали ему руку партизаны. — До свидания! Только гора с горой не встречаются!
— Горы, брат, тоже встречаются! — улыбался Вардис. — Но лучше не надо! Будьте здоровы, ребята!
Космас проводил его до ворот.
— А ты куда направишься? — спросил Вардис.
Этот простой вопрос смутил Космаса. Ему тоже нужно куда-то идти, как это он еще не подумал?
— Даже не знаю! — ответил он Вардису и почувствовал, как сжимается у него сердце: завтра или послезавтра он останется один-одинешенек.
— Считай, что у тебя есть дом на Панкрати. Держи адрес. Если я куда уеду, жена и сын будут знать. Открывай дверь, как к себе домой. А теперь иди сюда…
Они пожали руки, поцеловались крест-накрест, по-партизански. И Космас побрел по грязным пустынным улочкам Астипалеи. Ему хотелось побыть одному. Он думал о вчерашнем параде, о прощальных приветствиях: «Будь здоров!» и «Желаю удачи!», которые все чаще слышались среди партизан, о скорой сдаче оружия, — все это означало конец славной борьбы, так и было написано в приказе. Но все это имело и другой смысл, все это подводило горький итог: большая мечта ускользнула у них из самых рук. «Мы не удержали ее, и она закатилась, как ясный день теряется в смутных красках заката, — подумал Космас, но сразу же нашел в своем сравнении изъян, тот самый изъян, которым страдают все сравнения, — неточность. — Ясный день так или иначе кончится, его не удержишь, но то, что мы добыли ценой крови, надо было удержать. Так много пролито крови…»
На пустынных улочках, среди жалких домишек и развалюх, такие мысли особенно щемили сердце. Космас понимал, что его суждения не совсем объективны: ему, видно, не удавалось зажать в кулак свою боль и не давать ей воли, чтобы не затемняла ему глаза, чтобы не заслоняла от него мир. «Я, конечно, преувеличиваю, размышлял Космас. — И, в конце концов, сегодня не только кончается одна история, но и начинается другая». Домики редели. Грязная дорога с глубокими колеями, со следами копыт и ног, залитыми мутной, желтой водой, уводила его на пустынный холмик. Городок теснился внизу — красноватые облезшие крыши, выцветшая мозаика, прячущаяся за деревьями, частью зелеными, частью голыми, за миндальными садами, которые уже цвели. «Сумасшедший миндаль, отчего ты расцвел в январе?» — вспомнил Космас строчку из песни, как вспоминаем мы что-то знакомое, перекликающееся с нашей судьбой. Только теперь Космас заметил, насколько похожа Астипалея на его родной городок там, на юге, в Пелопоннесе. Он тоже лежал в долине, чуть пониже предгорья, среди деревьев и садов, полей и оливковых плантаций. И здесь, и там богатый край и бедные люди. Несколько крепких хозяев живут в больших домах, они в первых рядах, праздничные и довольные, как знаменосцы, а за ними влачит грехи безгрешных дедов и прадедов беднота. Это еле плетущиеся солдаты с подгибающимися ногами, худосочные, в чирьях и лишаях, в рваных мундирах с тусклыми пуговицами. Расторопный командир ловко прикрывает их от чужих взоров шеренгой подтянутых, видных здоровяков, чтобы не портить вид своей части. Так жили на родине у Космаса, так жили и здесь, в Астипалее. Космас смотрит на эти лачуги, на сырцовые кирпичи, на черные от дыма соломенные крыши, на босоногих ребятишек в чужих обносках, которые вяло и без интереса, словно старики, расходуют свои крохотные силенки, меся грязь. «И здесь то же самое, — размышлял Космас. — Везде то же самое…»
Он остановился возле одного двора, отгороженного агавой. Из глубины долетал тяжелый запах, пахло конюшней и хлевом. Козочка с тощим, сморщенным выменем услышала хлюпанье его ботинок и повернула к нему большие кроткие глаза и белые висюльки — сережки, такие же тощие и сморщенные, как соски ее вымени. От шеи у нее тянулась веревка, скрученная из ее же шерсти. Она блеяла тихо и протяжно, будто выплакивала безнадежные слезы. А чуть подальше барахтался в воде ее товарищ — мальчишка, он тоже заметил Космаса и смотрел на него, они смотрели друг на друга в щелочки между толстыми и колючими листьями агавы. Космас глядел на мальчика и не мог определить, сколько ему лет: может, пять, а может, десять. Просторная, с чужого плеча, одежда висела на его маленьком тельце, как на жердочке, а из штанин высовывались тонюсенькие, точно камышинки, ножки. Щеки его запали, глазницы резко обозначались, а глаза прятались где-то глубоко-глубоко, и вся голова была голой, шишковатой, крупной, точь-в-точь как у афинских ребятишек в голодную весну сорок второго года. Тогда все только начиналось… А разве теперь кончается?
Он улыбнулся мальчугану и поманил его пальцем:
— Иди, иди сюда, малыш! Как зовут тебя?
Но мальчик не подошел, а медленными шажками, не сводя глаз с Космаса, попятился к дому. «Иди сюда!» — еще раз улыбнулся Космас, однако мальчик не остановился, он шлепал по лужам и жидкой грязи, и, когда добрался до дома, испуганно юркнул в дверь.
Со стороны холма послышались голоса. По дороге шли две девушки-партизанки.
— Добрый вечер! — поздоровались они с Космасом. — Новости знаешь? В полдень прибыла рота национальной гвардии. Это они будут принимать оружие.
— Здешние?
— Нет, не здешние, из Пелопоннеса. Солдаты говорят, что офицеры ихние были цольясами…
Космас попрощался с девушками. Он торопился в казармы.
…В зыбких сумерках показались низкие здания с красноватыми крышами. Партизаны пели. Еще два-три вечера оставалось у них, чтоб вместе петь эти еще совсем живые, как дела, песни. Завтра эти песни станут воспоминанием.
Бойцы сидели — кто в казарме, а кто под навесом — и чистили оружие. Посредине двора, опершись на каменную стенку колодца, расположился старый партизан. Он уже начистил свою винтовку и теперь, направив ее в сторону закатившегося солнца, любовался сияющим стволом.
— Блестит?
— Как солнышко! Иди посмотри…
Космас взял винтовку и тоже направил ее в небо, еще светлое, красное. Ствол действительно блестел — сияли и гладкая поверхность, и спиральные бороздки, будто облитые ртутью.
— Ну как? — спросил партизан, забирая винтовку. — Погоди минутку, ты мне нужен, я тут записал номер…
Он вытащил из кармана блокнотик, где был записан номер винтовки. Он поставил этот номер на каждой странице и просил Космаса сверить, правильно ли он изобразил латинские буквы — IR 78584. Космас сверил.
— Правильно!
Партизан довольно улыбнулся.
— А теперь взгляни сюда!
И он показал Космасу приклад, на котором было вырезано: «Псалидас. ЭЛАС. 1942–1945».
Почти все партизаны сделали то же самое — вырезали на прикладах свои фамилии и даты. В казарме у самого окошка Космас увидел девушку, которая бритвой выскабливала на прикладе какие-то буквы. Это была Лаократия. Она не слышала его шагов и не оглянулась. Космас подошел на цыпочках и закрыл ей глаза. Лаократия встрепенулась, попыталась вырваться.
— Потерпи! — попросил Космас. — Попробуй-ка догадаться.
Она стала называть незнакомые ему имена.
— Нет! — говорил Космас. — Нет!
— Ну кто же ты? — потеряла она терпение и оглянулась. — Космас!
— Все-таки узнала! А я думал, ты совсем уж меня забыла… Покажи, что ты там пишешь.
«ЭЛАС-ЭПОН. 1943-194…» — вырезала Лаократия.
— Напиши и про Астрас, — посоветовал Космас. — Нельзя нам его забывать, тем, кто остался. А где Фигаро?
Фигаро появился с двумя дымящимися котелками.
— Поужинай с нами, — пригласил он Космаса. — Правда, третьей ложки у нас нет, но мы с Леньё обойдемся одной, а ты бери мою…
Они ели жидкую чечевицу и вспоминали вчерашние истории, которые уже стали старыми.
— Куда ты теперь, комиссар? — спросил Фигаро. — Что думаешь делать?
И снова Космас почувствовал ту же растерянность, как несколько часов назад с Вардисом.
— Там видно будет. Еще не решил. А вы что думаете?
Они переглянулись.
— Мы тоже еще не решили, — ответил Фигаро. — Леньё хочет в свою деревню, а я зову ее в Навпакт. Посмотрим еще, подумаем…
— А вы бросьте жребий! — пошутил Космас. — Ну, а дальше? Чем думаете заняться?
— У меня есть ремесло! Если поедем к Леньё, там многого не потребуется, обойдусь тем, что у меня есть, — машинка, ножницы, бритвы, — буду брить, как брил здесь. Дело несложное. Потом, может, прикуплю еще какой инструмент. А вот если поедем в Навпакт, то все мое барахло надо будет бросить на помойку. Найду работу где-нибудь в парикмахерской… Есть тут еще одна думка. В соседнем батальоне служит мой земляк, тоже парикмахер. Может, вместе откроем свое дело. Партизаны будут первыми клиентами.
Лаократия пошла мыть котелки.
— Послушай, может, ты знаешь, — тихонько спросил Космаса Фигаро, — как мы будем добираться домой? Подвезут нас или пешком потопаем?
Космас не задумывался над этим и пожал плечами.
— Не знаю… Наверно, развезут, как же иначе?
— Мы тоже так думаем… А пока не знаем наверняка, не можем решить, куда податься. Если повезут, то мы, конечно, поедем в Навкапт. А если пешком… не поплетешься же туда пешком? Придется идти день и ночь, а у Леньё нога еле срослась после перелома…
— Не волнуйся! Дадут машины! — успокоил его Космас.
— Мы тоже так думаем! — обрадовался Фигаро. — Пусть какой ни есть драндулет. Пусть хоть одна Леньё поедет, а я, если места не будет, доберусь и на своих на двоих…
Со двора донеслись крики. В дверь заглянула Лаократия:
— Рота уходит! Пойдемте попрощаемся с ребятами, Во дворе строилась партизанская рота.
— Куда это они? — спросил Космас.
— В округ. Они не из нашей дивизии, Пойдут сдавать оружие вместе со своими.
Рота с песней двинулась в путь.
— Счастливый путь, ребята! — Провожающие бежали рядом, пожимали руки, целовались. — Будьте здоровы! До свиданья!
Среди провожающих Космас увидел мощную фигуру Фантакаса, возвышавшегося над товарищами, как деревенская колокольня. Космас окликнул его. Фантакас подбежал, еще издалека протягивая огромную ручищу. Он обрадовался встрече с Космасом, но даже эта радость не могла стереть с его лица глубокого огорчения. Взгляд его был беспокоен, тяжел и угрюм.
— Чего такой невеселый? — спросил его Космас.
— Ас чего веселиться? Знаешь, как у меня сейчас на сердце? — Фантакас вздохнул. — Как будто иду на похороны…
— Нельзя так! Нельзя отчаиваться!
Фантакас взглянул на него с обидой.
— Не то говоришь…
Он оглянулся, снова вздохнул. И задумался.
— Да что с тобой, Фантакас?
— Тебе я скажу, — вдруг решился Фантакас.
Он взял Космаса за руку и повел в темный закоулок за казармой. Огляделся вокруг — ни души.
— Глянь-ка сюда! — Фантакас быстро расстегнул шинель и распахнул одну полу. Там, привязанный к телу черной веревкой, висел автомат «томпсон». На широченной груди Фантакаса он почти не выделялся. — И никому я его не отдам!
— Это называется нарушением приказа!
Фантакас рассердился:
— Разожги костер и скажи мне: «Прыгай!» Я прыгну! Но автомат не отдам! Знаешь, кто проехал здесь сегодня утром?
Космас догадался еще до того, как Фантакас назвал его имя.
— Тот самый предатель, посыльный из Шукры-Бали! С отрядом национальной гвардии! Два наших парня видели его на вокзале, они здесь, хочешь — спроси у них. Сюда он не приехал потому, что здесь его даже собаки знают, Будет отбирать оружие в Македонии. А когда отберет, явится сюда. Один раз он убивал меня при немцах, теперь захочет убить при англичанах. Так что автомат мне пригодится…
Фантакас застегнул ремень, подобрался.
— Не тужи, Фантакас! Больше бодрости! — обнял его Космас. — Времена переменятся…
— Бодрости у меня сколько хочешь, а вот патроны если понадобятся, где найти патроны?
— Пусть лучше не понадобятся! Будь здоров! — И Космас почувствовал свою руку в твердой ладони Фантакаса.
— Будь здоров, Космас! До скорого свидания!
— В Афинах?
— А! — Афины Фантакаса не привлекали. — Давай лучше на Астрасе. Там ели и воздух чистый…
* * *
В город Космас вернулся вместе с Бубукисом, которого тоже встретил в казармах. Бубукис сказал, что в газету пришло письмо от Спироса. Письмо было из Трикала, туда занесло при отступлении редакцию «Свободы». Спирос спрашивал о Космасе и просил передать ему, чтобы тот поскорее ехал в Афины и разыскал их редакцию.
— Они, наверно, уже в Афинах! — говорил Бубукис. — На днях газета снова откроется. А вы тоже на днях сдадите оружие и поедете…
— А ты что собираешься делать?
Бубукис улыбнулся, и его голос зазвенел, как колокольчик:
— Жду распоряжений! Пока что останемся здесь, с нашим дорогим Лиасом.
— А Элефтерия?
Лицо Бубукиса осветилось радостью.
— Элефтерия со мной! Надо поскорей подыскать попа и обвенчаться. Мы, брат, надеялись увильнуть от этой процедуры, думали, что наш брак будет первым гражданским браком в Греции…
«Одним из первых, потому что не вы одни так думали», — хотел сказать Космас, но промолчал. Зачем портить другу настроение? Бубукис был счастлив, это чувствовалось даже по его легкой, прыгающей походке. И он заслужил свое счастье, он тоже дорого за него заплатил: годы юности остались позади — в тюремных камерах и на двух-трех островах Эгейского моря. Но счастье, когда ты его наконец находишь, поспешно перечеркивает дурные дни прошлого и заодно те дурные дни, которые, может быть, придут.
…Бубукис тоже умолк, словно устыдился своего счастья перед горем Космаса. Так, молча, они вошли в Астипалею.
— Погоди, — вдруг насторожился Космас, — что это еще за песня?
— Во всяком случае, не кантаты! — прислушавшись, пошутил Бубукис.
— Конечно, не кантаты. — Космас слышал эту песню в Афинах в горячие дни перед декабрьскими событиями: «Москва, София, вы будете нашими».
— Словно летучие мыши, — сказал Космас.
— Да, почуяли темноту и распустили крылья. Но разве настоящие крылья у летучих мышей? Они ведь даже не птицы…
Из освещенных окон послышались здравицы в честь англичан и короля, а потом ругань в адрес ЭЛАС.
— Вот это здорово! — поразился Космас. — Уже распоясались. Ты только подумай — в Астипалее стоит еще целая дивизия, а они не стесняются, поют…
— Делать нечего. Послушаем, — сказал Бубукис. — Главное — хладнокровие.
— Хладнокровия хватит, а вот если…
Зачем было спрашивать? Вопрос, вертевшийся на языке у Космаса, недавно ему самому задал Фантакас, и Космас его успокоил…
XVIII
В Астипалею начали прибывать английские грузовики. По соглашению они должны были развести партизан по их краям. Те бойцы, что жили в области Аетипалеи, прощались с товарищами, прятали в карман узенькую бумажку воинского свидетельства — почетный аттестат и дорогую память — и расходились пешком. Так однажды вечером ушел со своими земляками Фантакас — все они были в плотно застегнутых шинелях. Город понемногу пустел. Но много еще дней звучали прощальные песни, бородатые безоружные мужчины обнимались и целовались прямо на улице, желали друг другу счастья.
С одним из грузовиков, уходивших в Афины, Космас отправил госпожу Георгию. «Спасибо, мой мальчик, за все, что ты для меня сделал, — со слезами говорила она на прощанье. — А мы тебе делали только зло. Когда приедешь в Афины, обязательно заходи к нам… Большое спасибо…»
Английский ефрейтор, распоряжавшийся грузовиками, предложил первую машину командованию и штабу.
— Нет, — отказался Ставрос, — пусть сначала едут партизаны…
И каждый раз, когда отправлялась новая партия, он выходил на площадь попрощаться. Бойцы пожимали ему руку.
— Будь здоров, комиссар!
— До скорого свидания, теперь уже в мирной работе и борьбе! — кричал им Ставрос. — Счастливого пути!
Как-то раз в полдень, проводив одну из последних партий, Ставрос и Космас вместе возвращались в областной комитет.
— На днях поедем и мы, — сказал Ставрос. — Какие у тебя, Космас, планы?
— Какие планы? Куда космос{[91]}, туда и Космас.
Ставрос засмеялся.
— Это ты хорошо сказал, но я переверну, и будет лучше: куда Космас, туда и космос. Так будет правильнее, потому что впереди нас ждет жестокая борьба, пожалуй, более жестокая и решительная, чем та, что мы вели…
Сейчас Ставрос говорил мягче, в его голосе не слышалось тех суровых, категорических ноток диктата, которые обычно мешали окружающим найти с ним общий, дружеский язык.
— Я хочу тебя спросить… — начал Космас.
— Спрашивай. — Ставрос остановился и ждал.
— Этот вопрос задают все партизаны, хотя им уже не раз на него отвечали… Может, в той борьбе, что нас ждет, понадобится оружие, которое мы теперь отдаем…
— Нет, это исключено. И разговоры эти необходимо пресечь. Мы поставили свои подписи под соглашением, и наш долг — его выполнить. Теперь, Космас, нам много чего придется выслушать. Много будут говорить об ошибках, которые были и не были допущены. Найдутся недоброжелатели, которые не упустят этого случая. Но не им нас судить. Никто с того берега не имеет права судить о борьбе, в которой они не приняли участия. Возможно, мы ошибались, возможно, мы где-то споткнулись, Нас рассудит история, когда для этого наступит время, нас рассудят борцы, а не дезертиры. Эти шарлатаны пойдут на все, чтобы обмануть народ, а мы, Космас, должны сделать все, чтобы просветить его, чтобы удержать наше единство, сохранить дух Сопротивления. За это мы и будем бороться…
* * *
Однажды утром они тоже простились с теми, кто оставался в Астипалее. «До свидания!» — говорили они и верили, что это свидание непременно сбудется.
— А где? — спросил Космаса врач. — Я люблю конкретность.
— В Афинах!
— Ах, дорогой мой друг! Боюсь, что твой расчет неверен! Если я чему-то и научился к старости, то именно этому — судить о вещах здраво. Говоришь, в Афинах? Я думаю, тебе следовало бы знать: Греция не помнит такого случая, чтобы люди, отважно воевавшие за нее, не получили достойной награды — не отсидели за решеткой энное количество лет. Я, конечно, вовсе не герой, но сдается мне, что без врачей вам там не обойтись…
Когда Космас передал слова врача Ставросу, тот весело рассмеялся.
— Врач, как всегда, преувеличивает. Уже сам факт, что между правительством и представителями ЭЛАС заключено соглашение, придает декабрьским событиям политический характер и гарантирует безопасность наших товарищей. Да и в самом соглашении об этом написано черным по белому…
Был последний день февраля, последний день зимы… Утро. Они стояли на площади и ждали машин. Машины подъехали, но бойцы не успели еще сесть, как вдруг на взмыленной лошади прискакал всадник, он спрыгнул у здания областного комитета. Со всех сторон к нему сбегались люди.
— В чем дело? — заинтересовался Ставрос и тоже поспешил к толпе.
Всадник был из Хелидони. Там на рассвете гвардейцы произвели повальные аресты. Они с вечера запретили населению выходить на улицу и окружили дома. Арестованы руководство и актив местной организации, а также многие из вернувшихся домой партизан.
* * *
В Афины они въехали на закате. Еще не стемнело, и они увидели следы боев. Город оставался таким же, как в последние дни войны. Не разобранные, а наскоро сдвинутые в сторону баррикады, полусгоревшие и полуразрушенные дома, разбитые, осыпавшиеся на тротуары стекла, усеянные следами от пуль и снарядов стены.
Машины поднимались по Пирейской улице.
— Запевайте, ребята! — сказал Ставрос. — Мы не побежденные!
Дорогой Ставрос все время пел. Едва машины отъехали от Астипалеи, он попросил шофера остановиться и перебрался из кабины в кузов.
— Я тоже, в конце концов, хочу петь! Вы целых три года пели, а я дай бог если раза три…
Сначала ребята немного смущались, но вскоре их машина, которая шла первой, стала и самой шумной.
— Сегодня я чувствую себя словно школьник в летние каникулы, говорил Ставрос. — Завтра начнутся новые дела и новые заботы, но сегодня… Почему бы нам сегодня не спеть? Ведь мы непобежденные! Революционеры не терпят поражений, даже когда падают. Так и в песнях наших поется… Справедливая война кончается только победой, и до победы ей нет конца…
За их машиной следовали еще четыре, и на всех машинах пели. На второй машине ехал дядя Мицос, на третьей — Леон. Генерала несколько дней назад вызвали в округ.
В деревнях и маленьких городках, которые они проезжали, шоферы избегали останавливаться и мчались на последней скорости. Из окон домов махали платками; с тротуаров, с мостовых, с полей им кричали:
— Добрый путь, ребята! Счастливо вернуться!
Но в Афинах, куда они приехали совершенно охрипшими, торопливые пешеходы приостанавливались, молча смотрели им вслед и спешили уйти. Безмолвные фигуры, нервные движения. Рядом вооруженные жандармы, рядом англичане.
— Нужно сломить этот страх, — сказал Ставрос. Эласит из Пирея завел густым басом:
Слушайте, греки, голос партизан!..
— Правильно! Именно эту! Давайте все вместе!
С сумеречных тротуаров Пирейской улицы их слушали немые тени. Машина выехала на Омонию и свернула на улицу Афины.
— Скажи, чтоб остановил! — попросил Космаса Ставрос. — Куда он нас везет?
Космас потянулся к окошечку и крикнул шоферу, чтоб остановился. Тот не ответил и даже не обернулся.
— Э! — снова крикнул Космас. — Стоп! Приехали!
И на этот раз шофер не остановился. Космас еще ближе подвинулся к окошку и увидел широкую неподвижную спину англичанина. Эта спина что-то ему напомнила, и смутное беспокойство вдруг обрело форму: ночь в Астипалее… шофер, который не хотел остановиться… Он кулаками забарабанил по кабине.
А когда оглянулся, чтобы сказать Ставросу, что ему вовсе не нравится поведение шофера, увидел, что все остальные тоже обеспокоены. Песня смолкла, партизаны смотрели назад, на Омонию.
— Что он говорит? — спросил Космаса Ставрос.
— Делает вид, что не слышит. Что-то подозрительно…
— Да, — согласился Ставрос. — И самое главное — мы оторвались от остальных машин. Они свернули в другую сторону…
Они выехали на площадь мэрии и с разных сторон услышали удаляющиеся, замирающие песни: одни — с улицы Стадиу, другие — с Омонии. В крытом грузовике было темно.
— Что бы это значило? — гадали партизаны. — Давайте лучше спрыгнем на ходу.
— Нет, — категорически запретил Ставрос, — мы не грабители и не осужденные, и бежать нам не пристало!
Скорее всего они развозят нас в разные стороны, чтобы избежать, шума и демонстрации. Как бы там ни было, главное — хладнокровие…
А потом снова крикнул:
— Чего же мы смолкли? Давайте петь…
И они опять запели.
* * *
Машина подъехала к Монастыраки и внезапно остановилась.
Водитель высунулся из кабины и крикнул что можно вылезать.
— Выходите! Приехали! — Не заглушая мотора, он ждал, когда партизаны сойдут.
Бойцы прыгали из кузова.
— Возвели мы поклеп на человека! А ему бы надо и спасибо сказать!
Космас спрыгнул и пошел благодарить шофера.
— Все сошли? — спросил он Космаса.
Космас не успел ответить, позади послышались голоса и топот. Из закоулков высыпали темные тени.
— Смерть большевикам!
Партизаны стояли, ощущая тяжесть и ломоту от долгой езды, ошеломленные, растерянные. Кто-то предложил сесть обратно в машину, но было поздно, грузовик тронулся.
Ставрос шагнул вперед. Он что-то кричал, но голос его тонул в криках бандитов. Космас бросился к нему, Чья-то рука схватила его за плечо, а на спину обрушился тяжелый удар. Большое, грузное тело навалилось и подмяло его под себя. Космас упал на колени, но снова поднялся. Он протянул руку, пальцы его нащупали чье-то лицо, потом чью-то шею, и он что было силы сжал пальцы. Путь освободился. С трудом передвигая отяжелевшие ноги, Космас двинулся туда, где в нескольких метрах от него отбивался Ставрос. Сзади его снова ударили. Кто-то шарил по его боку, нащупывая руку, которой не было…
Когда он пришел в себя и опять поднялся на ноги, бандиты уже отступили. Они бесшумно разбегались по темным закоулкам. Прикрывая их отступление, прогрохотали ружейные выстрелы. Партизаны приникли к асфальту. Чуть подальше в темной лужице крови Космас увидел Ставроса. Он подполз, окликнул его, попробовал приподнять. Потом расстегнул на Ставросе рубашку, и его пальцы погрузились в широкую ножевую рану.
* * *
Со стороны улицы Афины с воем примчались две машины и резко затормозили перед толпой партизан. Оттуда выскочили и военные, и штатские — все с револьверами в руках.
— Не разыгрывайте комедию! — крикнул Космас. — Выбрали время…
— А ты придержи язык! — Один из военных в два прыжка оказался возле Космаса и приставил к его груди револьвер.
— Ты это брось! — сказал Космас. — Нас не запугаешь. Вызовите «скорую помощь», чтоб забрала раненых, а в остальном мы потом разберемся…
Еще трое военных подошли и окружили его.
— О! — услышал Космас громкий возглас. — Да тут сам комиссар Космас!
Мужчина в штатском отстранил военных и остановился перед Космасом. Космас узнал Зойопулоса и ничуть не удивился встрече.
— Я же говорил, что встретимся! — Зойопулос поднял руку и наотмашь ударил его в лицо.
Он ударил еще и еще.
— Этого мы заберем, — сказал он военным. — Он убил судью Кацотакиса. Он многих еще убил, мы это расследуем.
Космаса схватили и потащили к машине.
— Куда вы его тащите? — протестовали партизаны. — Он руку свою потерял, воюя с захватчиками…
— Это все сказки! — крикнул Зойопулос. — Ничего он не воевал! Я знаю его с детства, он родился одноруким, меченым. А будь у него вторая рука, он прирезал бы еще человек двадцать.
— Ребята! — крикнул Космас. — Сообщите в газету!..
— Да заткнись ты, наконец!
Ему заткнули рот платком и с этим кляпом привезли в полицейское управление.
— Кого еще привезли? — спросил офицер полиции.
— Комиссара Космаса! Убил судью Кацотакиса. И еще человек двадцать…
Космас был невозмутим.
— Вы не имеете никакого права меня задерживать! Вы убили наших товарищей… Правды все равно не скроете!
Офицер смотрел на него вытаращенными глазами.
— Вы посмотрите, какой цинизм! Случалось мне видеть разных преступников, но такого… Взять его!
Вскоре за ним пришли. В течение нескольких часов таскали из комнаты в комнату, сфотографировали, взяли отпечатки пальцев, измерили рост — 172.
— Ты, брат, ошибся, — сказал Космас, — я гораздо выше, чем ты думаешь.
Ночью его вывели во двор и бросили в крытый грузовик.
— А куда вы теперь меня повезете?
— Туда, где место преступникам.
Судя по поворотам грузовика, Космас понял, что его везут в тюрьму «Аверов».
В камере, куда его втолкнули, было темно. Он услышал голоса, шагнул и натолкнулся на людей.
— Эй, кто ты?
— Воды, ребята! Язык не ворочается…
Избитое тело горело.
— Воды не проси! Терпи! Мы тоже терпим.
— Есть здесь кто-нибудь из дивизии «Астрас», из Астипалеи?
— Все оттуда! А ты кто?
Космас назвался. Чья-то рука потянула его к себе.
— Иди сюда, Космас, устраивайся рядышком!
— И вы здесь, дядя Мицос?
— И я здесь! Где же мне еще быть? Говорят, я совершил десяток убийств. Правда, мне еще не назвали, кого я укокошил…
Камера была большая. В глубине кто-то запел:
Я партизан ЭЛАС…
Остальные поддержали. В дверь забарабанили часовые. Но узники не замолчали. Они пели партизанские песни, которые обретали теперь новый смысл — накануне новой борьбы заново давалась партизанская клятва.
Маленькое окошко возвестило о рассвете. Рассвет был мутный, неохотный, готовый умереть еще в пеленках.
— Какой это день занимается? — спросил молодой парень. — Я первый раз попал в тюрьму, хочу запомнить число…
— Первое марта! — ответили ему. — Первый день весны!
— Мой первый день в тюрьме! — сказал парень.
XIX
Они верили, что нелепые обвинения долго не продержатся, и ждали, что не сегодня-завтра кончится и это злоключение.
На другой день их разместили по маленьким камерам, два-три человека в каждой. Космас оказался вместе со старым начальником штаба. Два с половиной метра в длину, два в ширину. Сводчатый потолок. Решетка на маленьком, высоко расположенном окошке, которое пропускает самые крохи света.
— Вроде старика Плапутаса{[92]} в застенке Иц-Кале! — смеялся полковник. — Вот это влипли! Это я понимаю.
Он все еще не мог поверить, что находится в тюрьме, но относился к этому очень спокойно. Скрестив ноги, как дервиш, он сидел на старом матраце, прямой и неподвижный, и с чувством пел унылую песню Колокотрониса.
…Прошло четыре дня. У них не было связи ни с внешним миром, ни со своими товарищами. Раз в день их выпускали из камеры опорожнить парашу и набрать воды и тут же снова заталкивали обратно. И вдруг в полдень Космаса вызвали к начальнику тюрьмы.
— Ступай и передай весточку на волю, — сказал старик. — Сигарет попроси и скажи, чтоб известили мою старушку. Жив, мол, и здоров…
Космас вышел во двор и тут тоже увидел свежие следы сражения: ободранные пулями и снарядами стены, основательно побитая статуя учредителя тюрьмы. Его провели в дверь напротив тюремной церкви. В маленькой комнатке за столом сидел человек в шляпе и плаще… Он встал навстречу Космасу, широко улыбнулся, и только тут Космас узнал Стелиоса.
— Ты меня, конечно, не ждал. Но что значит теперь этот сюрприз по сравнению с другими, более удивительными…
— Нет, Стелиос! Все остальное можно было предвидеть, но твой визит… Это очень приятный сюрприз.
Охранник закрыл дверь. Они остались вдвоем.
— Я пришел взять интервью у одного из самых отъявленных преступников, — засмеялся Стелиос и выложил на стол пачку газет.
Космас развернул одну из них. Вся первая страница была занята фотографиями. Один и тот же человек. Искаженное, обезображенное синяками и кровоподтеками лицо. Космас прочитал заголовок и обнаружил, что это не кто иной, как он сам. Им овладела ярость: стало быть, теперь подтасовывают не только слова и события, но и человеческие лица! Стелиос закрыл газеты рукой.
— Не волнуйся и не придавай этому никакого значения. Ты еще не такое увидишь и прочитаешь…
Но Космас не мог оторвать глаз от заголовка, набранного самым крупным шрифтом, какой нашелся в типографии: «Арестован однорукий убийца судьи Кацотакиса. На его счету еще двадцать убийств».
Длинный, растянувшийся на несколько страниц репортаж пересказывал подробности этих убийств. Взглянув на последнюю страницу, Космас прочитал обещание редакции в следующем номере дать продолжение.
— Вот мы и прославились! Попали на первую страницу! — Космас попробовал улыбнуться, но непослушные губы дрожали.
Стелиос быстро собрал газеты.
— Давай не будем терять на них время. Его у нас в обрез. Засунь газеты в карманы и выслушай меня. Через день я возвращаюсь в Каир и пришел сделать тебе одно предложение… — Он остановился, взглянул Космасу в глаза и торопливо добавил: — Время не позволяет мне начинать с пространных вступлений, да, я думаю, они и не нужны. Мои дружеские чувства к тебе ты, надеюсь, не подвергаешь сомнению…
— Правильно, — сказал Космас. — Давай к делу…
— Поехали вместе, Космас. В Египет! Послезавтра утром.
Космас внимательно смотрел на Стелиоса, стараясь разгадать, что означало это предложение.
— Ошарашил я тебя, — улыбнулся Стелиос, — надо было подготовить. Но суть не в этом. Тебе нужно уехать, совсем уехать из Греции. Потом захочешь — вернешься, захочешь — останешься в Египте. Те, кто бросил вас сюда, злобные и мелкие людишки, они ни перед чем не остановятся.
Космас встал, подошел к окошечку.
— Я понимаю твои намерения и побуждения, Стелиос, и очень их ценю. Большое спасибо.
— Ой, только не надо этих слов! Поедешь в Египет, избавишься от мучений, от издевательств ничтожных, рассвирепевших людей, которые — вот увидишь — долго будут править Грецией. В Египте устроишься на работу — с английским тебя возьмут где угодно. Закончишь свое образование!
Он говорил быстро и горячо. Космас стоял у окошка и слушал его с доброй улыбкой, как взрослые слушают чистосердечные признания детей.
— Да, это было бы хорошо, — сказал он Стелиосу, когда тот умолк, — но бежать я не могу, Стелиос, это мне не к лицу!
— Погоди! Погоди! — вскочил со стула Стелиос. — В конце концов, у тебя и в Египте будут единомышленники. Я думаю, сейчас там все поголовно стали красными. О греках и говорить нечего. Они выпускают газету, журнал…
— Послушай, Стелиос, я думаю, ты меня поймешь. Когда в 1942 году я познакомился со Стивенсом, мы вместе решили ехать в Каир. Я сказал о своем решении одному человеку, которого уже нет в живых, и он ответил мне, что это будет дезертирство. Я тогда не понимал, как можно называть меня дезертиром, если я еду туда, где фронт. Только потом я понял, что фронт был не в Каире, а здесь, в Греции.
— Я понимаю, что ты хочешь сказать, но ведь в Греции война кончилась…
— А раз кончилась, зачем же уезжать?
Стелиос взглянул на часы.
— Времени у нас мало. Я уверен, что ты не отдаешь себе отчета, в каком положении находишься. Ты, наверно, думаешь, что если тебя обвиняют в том, чего ты не сделал, то невиновность твоя будет доказана и тебя с миром отпустят? Так ведь?
— Но эти обвинения противоречат элементарной логике!
— Вся беда в том, что тебе не удалось хоть немножко пожить в городе. Ты не представляешь, как разгорелись здесь злые страсти… Ты не подозреваешь, что все, кто погиб в боях, — англичане, жандармы, полицейские, эласиты, а также старики, женщины и дети, погибшие от бомбежек, — все они вырыты сейчас из могил, их трупы выставлены на обозрение как дело ваших рук. Выставки разлагающихся тел, отрубленные руки, носы… В газетах публикуются фотографии, на стенах расклеиваются плакаты с самыми ужасающими снимками, они всюду, даже в витринах магазинов. Афины пахнут трупами и «эамовскими преступлениями». Ты заблуждаешься, если думаешь, что им трудно будет так или иначе обосновать свои обвинения…
— Но кому пришло в голову, что я мог убить Кацотакиса?
— Ты написал статью против судьи Кацотакиса, назвал его военным преступником и требовал его наказания. Найдутся несколько ложных свидетелей, подтвердят отдельные моменты, вроде тех, что описаны в газетах. И твоя песенка спета…
Космас прижал горячий лоб к влажному холодному стеклу. Моросил дождь, во дворе было грязно. Какой-то заключенный, еле волоча ноги, тащил в уборную парашу. За ним шагал охранник. Напротив высилась стена с решетками на маленьких окнах. Там, подальше, за церковью, их камера. Старик один. Он поет и с нетерпением ждет Космаса, ждет новостей, ждет сигарет…
— Если хочешь, я зайду завтра! — послышался голос Стелиоса.
Дверь открылась, но заглянул не охранник, а другой незнакомый Космасу мужчина.
— Пора кончать! — предупредил он Стелиоса и снова закрыл дверь.
Стелиос встал.
— Я еще раз зайду завтра. Твоего ответа я не слышал. Завтра в этот же час. Что я могу для тебя сделать?
— Дай-ка мне на минутку бумагу и карандаш! Стелиос протянул ему блокнот и авторучку. Космас присел и набросал имена и фамилии заключенных, которых он знал.
— Прошу тебя, — сказал он Стелиосу, — они должны сегодня же попасть в «Свободу».
— Хорошо. Что еще?
— И оставь, если есть, несколько сигарет. Мой сосед страшно тоскует по табаку.
Стелиос вынул полупустую коробку.
— Как это я промахнулся! — сказал он с виноватой улыбкой. — А ведь столько раз читал, что заключенных всегда тянет к куреву. Завтра принесу еще…
Вошел охранник. Стелиос протянул Космасу руку.
— Завтра в это же время!
— Хорошо! Но о сегодняшнем больше говорить не будем!
— Только об этом и ни о чем другом.
* * *
Старый полковник дремал. Дверь хлопнула. Он встрепенулся и протер глаза, еще раз убеждаясь, что тюрьма ему не приснилась.
— Эх, ты! Какой сон мне испортил!
— Какой, дядя Мицос?
— Будто попросил я у кого-то сигарету. «Нет, говорит, сигарету я тебе не дам, а вот из тюрьмы выпущу!» И только он начал отодвигать засов, явилась ваша милость… Если бы не ты, был бы я уже со своей старухой!
— Дурной тебе приснился сон, дядя Мицос. Правду говорят, что сны все наоборот показывают. Сигареты нам дали, а из тюрьмы, стало быть, не выпустят.
Космас отдал ему сигареты и выложил газеты с фотографиями.
— Вот это да! — изумился старик. — Откуда выискался такой сарацин?
Космас объяснил, кто этот сарацин. Полковник рассмеялся звучно и весело, и Космас подумал, что история эта действительно скорее смешна, чем трагична. Но когда он стал читать «показания убийцы», предысторию преступления, жуткие описания арестов населения и расстрелов в лагерях заложников, он снова почувствовал ту же ярость, что и в первые минуты. История начиналась издалека, со времени оккупации, с того дня, когда неизвестный однорукий юноша снял комнату в доме судьи. Судья обычно не сдавал комнаты в своем доме, но юноша оказался спекулянтом и платил бесценными по тому времени продуктами. Извращенный юноша с наклонностями насильника полюбил добродетельную и скромную дочь судьи. Она отвергла его любовь. И тогда однорукий юноша однажды ночью исчез из их дома и из Афин. В декабре он появился снова, это был всем известный «однорукий палач». «Этого не смыть даже водами Дуная», — думал Космас, чувствуя, как холодеет его лоб.
— Что с тобой? — подтолкнул его старик. — Не принимай близко к сердцу. Мало ли что пишут эти бессовестные…
Однако, заглянув в газету, он заинтересовался, лицо его стало серьезным, а руки с нетерпением перелистывали одну страницу за другой.
— Ты и вправду жил у них в доме?
— Да…
Старик сухо прокашлялся.
— Ну, а насчет девушки… это тоже правда?
Космас задохнулся от волнения.
— Так ты поверил, дядя Мицос?
Старик отбросил газету в сторону.
— Нет, что ты! Кто поверит этому вранью?
Космаса он не убедил. Ему казалось, что какие-то осколки клеветы запали в душу его товарища.
— Найдутся люди, которые поверят… Поверят, если мы будем молчать. Слава богу, читать и писать мы умеем…
Всю ночь они провели, прикидывая, что нужно делать. Что написать в опровержение? Чем написать? На чем?
Стелиос пришел ровно в тот же час, что и накануне.
— Давай не будем возвращаться ко вчерашнему разговору, — сказал Космас, когда они снова остались одни. — Газеты еще больше убедили меня, что место мое здесь.
— Я полагал, что ты оценишь всю сложность обстановки и тот риск, которому подвергаешься…
— Именно это я и оценил.
— Ты хорошо подумал, Космас?
— Все мои мысли сводятся к тому, что бежать нельзя. На днях я услышал одно верное изречение: справедливая борьба кончается только победой.
Стелиос пожал плечами.
— Все вы думаете на один лад. То же самое мне сказали вчера в газете…
— Вот об этом давай и потолкуем. Кого ты видел? Что тебе сказали?
Стелиос молча полез в карманы и стал выкладывать содержимое на стол. Первым было письмецо.
— Позволь, я прочитаю при тебе, — попросил Космас и вскрыл конверт. Он сразу же узнал почерк Спироса.
«Дорогой Космас! Шлю тебе бумагу и карандаши, по своему опыту знаю, как это сейчас нужно. Газетная клевета тебя, конечно, задела. Но поддаваться нельзя. Преодолеем и эту бурю. Кто много выстрадал — опять по моему же опыту, — тот горой стоит на своем, не сгибается и не клонится, как горы. Целую всех. На днях придет адвокат».
Стелиос с интересом следил, как Космас читает.
— Ты видел того, кто писал письмо? — спросил Космас. — Говорил с ним? Ну, и какое впечатление он на тебя произвел?
— Я ему посочувствовал, — улыбнулся Стелиос. — Голова у него была перевязана… — Стелиос помолчал и потом добавил: — Уговаривать тебя, как видно, нет смысла, со своей точки зрения ты, пожалуй, прав. Но кое-что я мог бы еще для тебя сделать. Есть люди, которые заправляют сейчас Афинами, а еще вчера в Каире и Лондоне лизали ботинки у отцовских чиновников… Хочешь сегодня же выйти на волю? Это ничего не стоит.
— Но это не выход, Стелиос! Когда ты уезжаешь?
— Завтра утром. И через несколько часов мы вместе могли бы попасть в Каир. Но тебя не переубедишь… Однако если ты позовешь, я услышу… даже там, в Каире… Услышу, когда бы то ни было…
В камере Космас прочитал письмо Спироса вслух.
Старику понравилось сравнение с горами, которые не клонятся, не сгибаются. «Как это ему пришло в голову? — подумал Космас про Спироса. — Может, я ему говорил?»
Он считал эту старую мысль своей. Он лелеял ее с первого дня партизанской жизни — горы и отважные люди. Горы, которые столько веков не рушатся и выстоят, сколько бы веков им еще ни было отпущено. Что это будут за времена? Разве угадаешь? Наперед разгадано только одно: горы не клонятся.
ГОДЫ И ГОРЫ
Однажды морозным днем 1946 года большая группа студентов-юристов, скудно отобедав в Студенческом клубе американской консервированной соей, шумной оравой двинулась на Академическую, а оттуда на площадь Конституции. По другим улицам сюда стекались другие толпы, и снова переполнилась, забурлила вся площадь перед парламентом.
— Долой фашистский закон! — кричали студенты и рабочие. — Отмените закон смерти! Свободу заключенным борцам!
Потом послышался рев сирен, выстрелы…
Молодой юрист-второкурсник, который появляется в самом конце этой книги, оказался в нескольких шагах от памятника Неизвестному солдату. Он тоже кричал вместе со всеми, когда чья-то рука вдруг схватила его за воротник старого плаща, а другая вцепилась в столь же старые брюки.
— А ну, пошел, герой! Бегом! — сказали ему полицейские.
В кабинете полицейского управления навстречу ему поднялся офицер полиции. В ответ на тяжелую оплеуху юноша заявил, что они не имеют права его задерживать, а он в свою очередь не желает иметь дела с подобными учреждениями.
— Нет, вы только посмотрите, какой цинизм! — возмутился офицер. — Повидал я на своем веку разных преступников, но такого… Взять!
В подвале его избили, а потом снова потащили наверх. Сфотографировали, взяли отпечатки пальцев, измерили рост — 165.
— Эй, ты украл у меня два сантиметра, — сказал юноша охраннику. — Мой рост — сто шестьдесят семь!
— Когда тебя следующий раз измерят, будет 162, — усмехнулся охранник. — Потом сто шестьдесят… сто пятьдесят и так далее. Такой у нас здесь порядок…
— Давай поспорим! Когда измеришь меня в следующий раз, будет сто семьдесят!
— Это зависит от того, как ты акклиматизируешься! Из каких ты мест — с моря или с гор?
— Ни с моря и ни с гор! В долине моя родина!
— Тогда остерегайся. Там, где ты будешь, одни горы да соленое море. И ничего больше…
Последнее слово осталось все-таки за юношей — он сказал, что соли укрепляют кости. За это его еще на полчасика спустили в подвал, вытащили оттуда на руках и бросили в крытый грузовик. Грузовик отвез его на улицу Никодима, дом 20.
* * *
Там они повстречались. Юный юрист сразу обратил внимание на заключенного, который лежал у противоположной стены. Их взгляды несколько раз встретились. Взгляд незнакомца был спокоен и весел, — так смотрят люди с крепкими нервами, которые никогда не теряют бодрости и в тяжелую минуту улыбаются: не беда, что буря, преодолеем и эту.
Заключенный приподнялся на колени и, что-то разыскивая, пошарил по одеялу левой рукой. На месте правой руки раскачивался пустой рукав.
— Кто это? — спросил юноша своего соседа.
— Смертник. Два раза уже осудили. Теперь повезут на третий суд.
— В чем обвиняют?
— Известное дело, в чем… Говорят, убил одного судью…
— Погоди, — торопливо остановил его студент. — Судью Кацотакисом звали?
— Да. А ты откуда знаешь?
— Знаю я этот процесс…
Студент встал и шагнул к Космасу. Космас принял его на своем одеяле как закадычного друга.
— Новенький?
— Да!
— Ни одеяла нет, ни белья? Нуль твое хозяйство!
— Нуль! — повторил студент и засмеялся.
— Присаживайся! Откуда тебя привезли?.. А! Знаю, знаю… И в подвале, наверно, тоже побывал? И сфотографировали, и отпечатки взяли…
— Вот-вот, так оно и было, — кивал головой студент. — Точь-в-точь как с тобой полтора года назад…
И они стали друзьями. Вместе провели весь день, всю ночь и еще целые сутки. Когда на третье утро в дверное окошко крикнули, чтоб Космас собирался, он вскочил и живо скатал в рулон свое одеяло. И студент подумал, что двумя руками он не управился бы так ловко, как его друг одной. Только теперь, в эти торопливые минуты прощания, он признался, что многое из того, что услышал здесь от Космаса, он знал и раньше.
— Каким образом? — удивился Космас.
— Когда в прошлом году в Афинах шел твой второй процесс, мы с однокурсниками помогали адвокатам готовить копии судебного дела. Твое дело я вызубрил назубок…
— Неужели было так интересно?
— Да, такой интересной показалась мне твоя история, что я даже задумал кое-что написать.
— Что-нибудь по специальности? Юноша слегка покраснел.
— Нет, совсем другое…
На каменной лестнице послышались шаги.
— Космас, с вещами на выход!
Космас перекинул через плечо одно одеяло, другое протянул своему другу.
— Мне его тоже подарили, подари и ты следующему. А вот о твоих замыслах… Сдается мне, что не больно подходящий ты выбрал случай. Если бы ты раньше мне открылся, я рассказал бы тебе другую историю — об одном человеке, которого я недавно повстречал на Эгине. Вот эта история стоящая, это, брат, настоящий герой. Рабочий, в сорок первом бежал с острова…
— Я тебя понимаю, — прервал его студент, — но меня интересует другое. Что-то более общее, касающееся всех и каждого…
Охранник загромыхал ключами, дверь отворилась.
— Давай, давай! — На лестнице показались два жандарма с винтовками и скатанными в рулон одеялами.
— Давай, Космас, не задерживай! — сказал охранник. — А друга своего ты еще встретишь, еще наговоритесь вдосталь.
Космас поправил на плече одеяло и шагнул к двери.
— Говоришь, увидимся? — улыбнулся он охраннику.
— У! Сколько раз! Вся жизнь впереди… Столько лет — и все ваши… Много, много лет…
* * *
Лет с тех пор прошло много — годы войны, что засчитываются вдвое, годы чужбины и тюрьмы, что стоят втройне. Много других судебных процессов было у Космаса, во многих других тюрьмах он отсидел, а прошлым мартом, пересчитав годы своего заключения, обнаружил, что их набежало ровно столько, сколько ему было в тот далекий вечер, когда начиналась эта история. Новая жизнь, новые истории… И все же с тем другом им не суждено было больше встретиться. Другие дороги повели за собой молодого юриста — весной 1947 года, когда он вернулся с острова, на Астрасе снова гремели выстрелы. Так ему довелось своими глазами повидать те места и тех людей, которых до него повидал Космас. Но на этот раз дорога увела его гораздо дальше — мешок с укрощенными ветрами развязался, и снова разыгралась та известная история, которая описана в античном эпосе:
Едем домой, но другими путями, другою дорогой
Плыть нам пришлось…{[93]}
Однако все подобные истории кончаются только на Итаке, и пока нога не ступила на ее землю, распущены паруса, работают весла, дует ветер надежды, и мысли, словно сирена, вырезанная на носу корабля, устремлены вперед. Поднимается волна, поднимается и сирена, чтобы не потерять из виду Итаку, «огни костров недалеких», голубую линию желанной суши. Воспоминания остаются чистыми, как освещенный солнцем утренний горизонт, воспоминания о несгибаемых горах, о людях, о золотых мечтах, воспоминание о том утре в тюрьме на улице Никодима: за темной закрывающейся дверью перед тем, как двинуться в путь, один из жандармов наклоняется и приковывает наручником единственную руку Космаса к правой руке второго жандарма. Дверь хлопает, и на каменных ступенях слышатся их шаги.
— До скорого свиданья, ребята!
Этот голос проник через решетку маленького дверного окошка и звучит с тех пор вот уже восемнадцать лет.
[1] Итальянская комендатура.
[2] В 1821 году в Греции произошла революция, положившая конец многовековому турецкому игу.
[3] Город в Турции.
[4] Крупный буржуазный политический деятель, лидер партии либералов, противник короля.
[5] В 1916 году в городе Салоники сторонниками Венизелоса был совершен военный переворот.
[6] Сторонники короля Константина XII.
[7] Реакционное правительство, пришедшее к власти в 1925 году.
[8] Правая буржуазная партия, поддерживавшая короля.
[9] Имеется в виду фашистская диктатура, установленная в 1936 году генералом Метаксасом.
[10] «Погибли даже развалины» (лат.). Эту фразу произнес Цезарь, увидев развалины Трои.
[11] Гизис (1842–1901) — один из основоположников новогреческой живописи.
[12] Юноша (лат.).
[13] Улица публичных домов в Афинах.
[14] Конец венчает дело (лат.).
[15] Оговорка (лат.).
[16] Каждый человек — обманщик (лат.).
[17] Идите, месса окончена (лат.).
[18] Лидеры Народной партии.
[19] Пироги из муки с примесью отрубей.
[20] Византийская императрица.
[21] Известный международный авантюрист.
[22] Съедобное (итал.).
[23] Нет (тур.).
[24] Кукурузный хлеб.
[25] Судно, доставлявшее в Грецию во время голода продовольствие из Турции.
[26] Во время итало-германской оккупации Греции перед Парфеноном были подняты три знамени — немецкое, греческое и итальянское.
[27] Ригас Фереос (1758–1798) — поэт-революционер, борец за освобождение Греции от турецкого ига.
[28] Перед зданием университета в Афинах стоит памятник константинопольскому патриарху Григорию V, повешенному турками в 1821 году.
[29] 25 марта — День национальной независимости, годовщина революции 1821 года.
[30] Первые строки национального гимна на слова… Д. Соломоса. Перевод А. Тарковского.
[31] ЭАМ — Национально-освободительный фронт, подпольная организация Сопротивления, созданная по инициативе Коммунистической партии Греции.
[32] Мы победим! (итал.).
[33] Вожди революции 1821 года.
[34] Остров в Эгейском море, место ссылки коммунистов.
[35] Генерал греческой армии, премьер-министр оккупационного правительства.
[36] Командующий войсками итальянского гарнизона города Афины.
[37] Увалень, тупица (греч.).
[38] Фашистская организация молодежи во время диктатуры Метаксаса.
[39] Анисовая водка.
[40] Бульварный роман XIX века.
[41] Уездный город в Северной Греции.
[42] Один из центральных районов Афин.
[43] Министр оккупационного правительства.
[44] Паламас (1859–1943) — видающийся греческий поэт.
[45] Итало-греческая война, начавшаяся в 1940 году, велась на, территории Албании.
[46] Аристократический район Константинополя.
[47] Колокотронис (1770–1843) — выдающийся народный военачальник революции 1821 года, в народе его звали «Пелопоннесский старец».
[48] ЭЛАС — народно-освободительная армия.
[49] ОПЛА — боевые дружины ЭАМ.
[50] Асфалия — греческая охранка.
[51] Старинная форма, которую носили солдаты греческой армии вплоть до начала XX века и носят и поныне солдаты национальной гвардии.
[52] Пелопоннес в народе называют Морьясом.
[53] Национальное блюдо из фасоли.
[54] Члены молодежной организации ЭПОН.
[55] Старинная крепость, использовавшаяся в годы диктатуры как тюрьма для коммунистов.
[56] Остров в Эгейском море, место ссылки.
[57] Концлагерь неподалеку от Афин, куда во время оккупации отправляли политических заключенных.
[58] Буржуазный политический деятель, противник ЭАМ.
[59] Премьер-министр оккупационного правительства.
[60] Константин Канарис (1790–1877) — герой революции 1821 года.
[61] Перевод А. Тарковского.
[62] Эпизод времен национально-освободительной борьбы против турецкого владычества. Женщины горной деревушки Сули, не желая попасть в руки врага, бросились со скалы.
[63] Национальная героиня Греции, член Коммунистической партии. Была схвачена греческой охранкой, мужественно выдержала самые ужасные пытки, не проронив ни слова. В июле 1944 года Электра погибла в застенках тюрьмы.
[64] В греческом эпосе — богатырь, храбрец.
[65] Как и Бубулина, имена героинь революции 1821 года.
[66] Чечевица.
[67] Греческие партизанские соединения, сформированные националистическими организациями.
[68] Эласиты — партизаны ЭЛАС.
[69] Боюсь данайцев, даже дары приносящих (лат.).
[70] Старинная греческая народная песня.
[71] Оружие (новогреч.).
[72] Вооружаю (новогреч.).
[73] Вооружаю, вооружал, вооружил, (древнегреч.).
[74] Вооружи, вооружите (новогреч.)
[75] Спасибо (новогреч.).
[76] Перевод М. Кудинова.
[77] Революция 1821 года.
[78] Перевод В. Нейштадта.
[79] В период турецкого ига в Греции клефтами называли партизан, оказывавших сопротивление поработителям.
[80] Члены молодежной организации Сопротивления — ЭПОН.
[81] Персонаж гомеровского эпоса, пилосский царь. В литературную традицию Нестор вошел как тип умудренного опытом старца.
[82] Эринии — в древнегреческой мифологии богини мщения.
[83] Главный герой греческого народного теневого театра; театр Карагёзиса черпал свои сюжеты из эпохи освободительной войны греков против турецкого ига.
[84] ПЕЕА — Политический комитет национального освобождения.
[85] Привет! (англ.).
[86] Фашистская молодежная организация.
[87] Как поживаешь? (итал.)
[88] Хорошо, хорошо… (итал.)
[89] Автор стихов — Константинос Кавафис (1863–1933), известный греческий поэт, живший в Александрии.
[90] Кавомалеас — опасный для мореходства мыс в южной части Пелопоннеса.
[91] Космос — по-новогречески: вселенная, люди. В данном случае слово употребляется во втором значении.
[92] Плапутас — военачальник в революции 1821 года; после революции вместе с Колокотронисом был приговорен к смертной казни.
[93] Гомер. Одиссея. Перевод Вересаева.