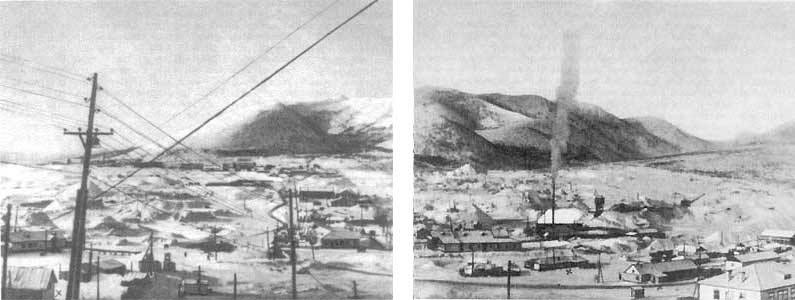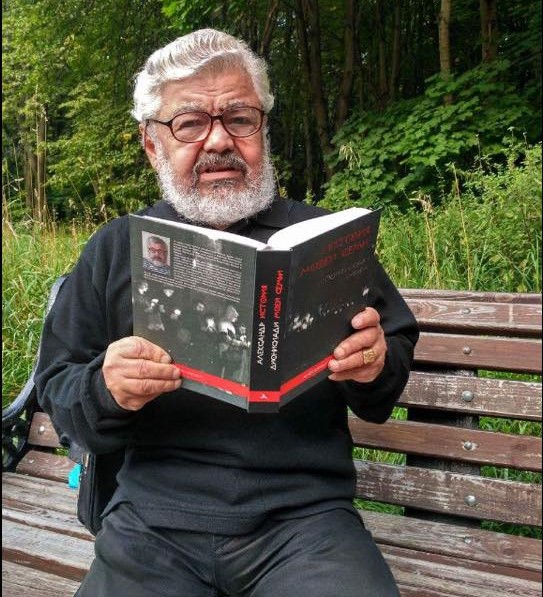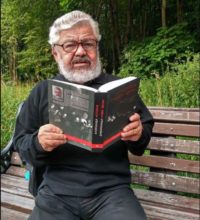Светлой памяти моих многострадальных бабушек,
родителей и безвременно погибших братьев посвящается
Глава 1
Трапезунд
Передо мной две крохотные стопки пожелтевших от времени писем – прах разоренного историей гнезда.
Одни написаны чернилами на хорошей бумаге каллиграфическим почерком на греческом языке. Они из далекого средиземноморского города Салоники, от моей бабушки.
Другие писаны карандашом на шероховатой и темной оберточной или рассыпающейся в руках папиросной бумаге на не очень правильном русском языке нервным едва разборчивым почерком. Целые абзацы затерты так, что не разобрать слов. Они из еще более далекой Колымы от моего отца.
Этим письмам без малого восемьдесят лет. И те и другие в подтеках. Это слезы. И тех, кто писал, и тех, кому они были адресованы, кто читал и перечитывал их помногу раз. Их и теперь нельзя читать без слез.
Семья Дионисиади была втянута в водоворот бурных политических событий конца XIX – первой половины ХХ вв. и поневоле разделила драматичную судьбу понтийских греков и на исторической родине, в Понте, и затем на новой родине (для одних ею стала Греция, для других Советский Союз). Как видим, история семьи Дионисиади тесно переплетается с судьбами разных стран и народов. На страницах Книги истории нашей семьи вдруг оживают сухие даты и факты из учебников истории, когда они становятся фактами из биографии наших предков.
Вглядываясь в старые семейные фотографии, узнавая судьбы наших отцов, дедов и прадедов, невольно задумываешься и о себе и своей судьбе, каким ты войдешь в историю своего рода…
Итак, кто мы и откуда мы, Дионисиади?
Есть романтическо-мифическая версия: Дионисиади – потомки бога вина и веселья Диониса. Γιατί όχι, не будем исключать и ее.
Но есть документально-историческая версия. На ней остановимся подробнее.
Фамилия Дионисиади закрепилась за нашим родом сравнительно поздно: по-видимому, первым Дионисиади был Андреас, родившийся в 1828 г. в г. Аргируполи (Гюмюшхане) в Османской империи. Во время переписи населения в 1881 г. он записался как Дионисиадис, т.е. сын Дионисия. Под этой фамилией он записал и своих детей. Скорее всего, таким же образом поступил и его младший брат Кирьякос, от которого идет наша ветвь. Надо сказать, что до этого времени греческое население Трабзона (Трапезунда) не имело своих фамилий, вместо них, как и у многих других народов, использовались семейные прозвища, и чаще всего это были производные от имени отца главы семьи, которые и становились впоследствии фамилиями.
Источником для нас является документ, составленный тем самым первым Дионисиади – Андреасом, о котором я упомянул. В этом документе история нашей семьи, начиная с 1828 г. (год рождения Андреаса), – рождения, смерти, обручения, свадьбы, путешествия, паломничества в Иерусалим… К сожалению, все очень кратко и схематично.
1. Генеологическое древо семьи Дионисиади.

О своем отце Дионисии Андреас написал, что тот был дважды женат. От первой жены Софии у него был сын Николай, который умер в 1842 г. в 25 лет. От второго брака с Параскеви были дочь София (тоже умерла молодой) и два сына – Андреас (автор документа) и Кирьякос. К сожалению, о нашем прямом предке Кирьякосе (мне он приходится прадедом) никаких сведений не приводится, не известна даже дата его рождения. И только со слов моего отца (внука Кирьякоса), известно, что он был человеком необузданного нрава, про которого говорили «бешеный Кирьякос»…
Дионисий умер в 1834 г., вскоре, через два года, умирает Параскеви. Андреасу к этому времени 8 лет, а Кирьякосу и того меньше. Видимо, сначала заботу о них взяли на себя старшие брат и сестра, но и они умерли еще до совершеннолетия своих младших братьев. Тогда опеку над ними взял их дядя Хадзииоаннис Андреади. Обычно у греков опеку над сиротами брал на себя дядя по отцу. В таком случае оказывается, что у Дионисия был брат Иоаннис, а их отца звали Андреас. Иоаннис был набожным человеком, поскольку приставка хадзи к имени означала, что человек совершил паломничество в Иерусалим. В этих традициях он воспитывал и родных и приемных детей. Его родной сын носил имя Хадзиконстантинос. В 1845 г. Хадзииоаннис совершил еще одну паломническую поездку, взяв с собой Андреаса. После возвращения и к его имени прибавилась приставка Хадзи. Был ли с ними Кирьякос, неизвестно, Андреас об этом не упоминает. О том, что семья Хадзииоанниса пользовалась большим уважением и авторитетом свидетельствует тот факт, что на обряде венчания Андреаса присутствовал митрополит Халдии.
Халдия – одна из шести митрополий Понта. Главный город области – Аргируполи (в 115 км южнее Трапезунда) расположен на высоте 1200 м от уровня моря, в окружении высоких гор, покрытых лесами. Его турецкое название – Гюмюшхане, известное с XVI в., окончательно закрепилось за ним лишь в середине XIX в. И в греческом и в турецком имени корень слова имеет одно и тоже значение – серебро. Свое название город получил от рудников серебра, которые находились в его окрестностях. Эти рудники были известны еще со времен Александра Македонского, но всерьез их разработкой занялись в XVI в. при султане Сулеймане Великолепном, который, кстати, родился в соседнем Трабзоне (Трапезунде). Прерогатива добычи драгоценного металла принадлежала грекам, при этом греки-горняки освобождались от налогов, которые взимались с христиан в Османской империи. Как следствие, сюда устремились греки-христиане из других районов Османской империи. Жизнь здесь расцвела, и очень быстро небольшое поселение превратилось в значительный город. Сулейман Великолепный учредил здесь монетный двор и распорядился построить для своих людей 50 домов и мечеть. Однако, кроме султанского наместника, турецкое присутствие было незначительным, город самоуправлялся и был преимущественно греческим. В период расцвета, с XVI по XVIII вв., население Аргируполи достигало 60 тыс. чел. К концу XVIII в. рудники истощились, и начался отток греческого населения в другие, сопредельные с Понтом, области, где находились новые месторождения.
Другой причиной оттока населения стали русско-турецкие войны. В ходе этих войн город дважды был занят русскими войсками в 1828-29 гг. и в 1877-78 гг. Каждый раз греческое население Аргируполи с воодушевлением встречало русские войска, но каждый раз после их ухода усиливались преследования со стороны османского правительства, и греки искали спасение в Российской империи: в 1829 г. многие греческие семьи переселились в Цалку (Грузия), в 1878 г. – в Батуми и Ставрополь. Но несмотря на это, до Первой мировой войны православные греки-понтийцы составляли почти половину населения города.
К XIX в Аргируполи уже утратил славу «серебряного города», его звездный час был уже в прошлом, но, тем не менее, он не превратился в «медвежий угол». В середине XIX в. по количеству школ область занимала второе место среди других митрополий Понта, в самом Аргируполи находилось Высшее греческое училище и библиотека. Город украшали полтора десятка церквей, несколько мечетей и мавзолеев. Благодаря высококлассным аргирупольским строителям и специалистам по добыче серебра, город был известен далеко за пределами Понта.
В Аргируполи Дионисиади жили до конца XIX в., затем сыновья Кирьяка – Лазарь и Ксенофон перебрались в Трапезунд (Трабзон). Размеренная патриархальная жизнь маленького города, расположенного в горах, ушла в прошлое и сменилась на «столичную» жизнь портового города, через который проходили оживленные торговые пути между Европой и Передней Азией. Как следствие, Трапезунд был открыт всем веяниям – культурным, идейным, революционным и т.д. До Первой мировой войны здесь жили преимущественно греки, армяне и турки (примерно в равных количествах). В большинстве своем христианское население было занято в ремесле и торговле.
Кем был и чем занимался в Трапезунде мой дед Лазарь, я не знаю. Мой отец мало успел рассказать о «той» жизни, да и я в молодости не отличался большой любознательностью…
Мой дед Лазарь в самом начале ХХ в. в Трапезунде женился на Виргинии Позани. У бабушки была большая семья – 2 брата (Николас и Константинос) и 4 сестры (Ольга, Персефони, Хриси, Елени), все они позднее оказались в Салониках. Виргиния была самой старшей в семье, она родилась в 1883 г.
2. Лазарь Дионисиади.
Сохранилась свадебная фотография Лазаря и Виргинии. Рядом с молодцеватым женихом – красавица невеста, но в ее глазах затаилась глубокая печаль, в этот момент она словно предчувствовала свою нелегкую, во многом трагическую судьбу.
3. Лазарь и Виргиния Дионисиади. Свадебное фото.
В 1905 г. у них родился сын – Николай, мой отец. Лазарь умер молодым, когда отец был еще маленьким. Рано овдовев, Виргиния всю себя посвятила единственному сыну. Судя по фотографиям, Виргиния после смерти мужа переживала трудные времена, но все делала, чтобы сын Ника получил хорошее образование. Он учился в знаменитом на весь эллинистический мир Фронтистирио Трапезунда, в высшем учебном заведении, основанном на пожертвования богатых греков. Кроме греческого языка там преподавали латынь, турецкий и французский. Отцу одинаково легко давались и гуманитарные и точные предметы. В аттестате об окончании гимназического отделения Фронтистирио (1921 г.) оценки в основном 9 и 10 по 10-ти бальной системе. 8 – только по латыни и турецкому.
4. Лазарь и Виргиния Дионисиади.
5. Сестры Виргинии: Элени, Ольга, Персефони.
6. Сестра Виргинии Хриси.
7. Виргиния и Николай Дионисиади.
В центре двоюродный брат Николая Дионис.
8. Виргиния с сыном Николаем.
9. Николай Дионисиади –
выпускник Гимназии Фронтистирио Трапезунда.
10. Аттестат об окончании гимназического отделения
Фронтистирио Трапезунда Николая Дионисиади.

Вместе с Николаем Дионисиади в Фронтистирио учился его лучший друг – Димитриос Парцалидис, будущий премьер-министр правительства греческих коммунистов (апрель-август 1949 г.), один из создателей национально-освободительного фронта Греции (ЭАМ) – партии греческих коммунистов. Но все крутые повороты судеб и Николая и Димитриоса были еще впереди. А в конце 1918 г., когда прокатилась волна революций и «призрак коммунизма» бродил по Европе, двое юношей, двое неразлучных друзей сидели на берегу моря и грезили о светлом будущем – о всеобщей свободе, равенстве и братстве, которое, казалось, в буквальном смысле слова уже не за горами. По словам отца, они говорили о значении красного революционного знамени и грядущей всемирной революции, которая уже началась в России и обязательно должна была охватить весь мир, чтобы уничтожить всякую эксплуатацию, насилие и социальное неравенство, чтобы все люди на нашей прекрасной планете жили счастливо…
Тогда они не могли предположить, что через несколько лет водоворот событий надолго разнесет их в разные стороны, чтобы спустя 40 лет неожиданно столкнуть лицом к лицу уже в Москве, на выходе из подвального помещения ресторана «Арагви». Бывшие друзья-побратимы узнали друг друга, но не решились обнаружить свои чувства. Оба знали биографии друг друга, оба знали об интересе к ним спецслужб, обоих в тот момент «сопровождали» другие люди, поэтому они разошлись, даже не подав друг другу знака. Страшный опыт сталинского времени диктовал свои правила поведения…
1921 г. – до подписания Лозанского договора об обмене населения между Грецией и Турцией остается еще два года, но моя бабушка, Виргиния в предчувствии надвигающейся катастрофы принимает решение уехать из Трапезунда. Вполне возможно, что была какая-то конкретная причина такого решения, но мне о ней ничего не известно. Вопрос – куда? Этим вопросом уже давно задавались многие понтийцы. Мнение среди родственников разделилось. Позднее сестры и брат бабушки Виргинии Позани, двоюродные брат и сестра отца – Дионис и Сула Дионисиади (дети Ксенофона – брата Лазаря Дионисиади) с семьей уехали в Грецию и обосновались в Салониках. У всех жизнь, слава Богу, сложилась удачно, и когда отцу наконец-то удалось побывать в Греции, он был окружен большим количеством родственников. Кстати, один из сыновей его двоюродного брата Диониса – Яннис Дионисиади – в 1975 г. основал вместе с партнерами ресторанную сеть Goody’s, которая стала крупнейшей сетью фаст-фуда в Греции.
Виргиния с 16-летним сыном приняли другое решение – перебираться в Закавказье. Бабушка отдала почти все свои сбережения соседу-турку, и он на своем баркасе переправил их в Батуми. Так завершился «трапезундский» этап жизни семьи Дионисиади и начался новый – «батумский».

Глава 2
Батумский период
Итак, в середине 1921 г., отец с бабушкой покидают родные края и переправляются в Батум (Батуми он стал в 1936 г.). Путь в Грецию в разгар греко-турецкой войны, наверное, был отрезан или, по крайней мере, связан с очень большими трудностями. К тому же, до насильственного переселения понтийских греков в Грецию, у семьи Дионисиади не было там родственников или близких людей. В этом смысле Закавказье было «ближе» не только территориально, но и из-за давних тесных связей. Многие понтийские греки издавна волнами переселялись в Закавказье или же частенько уходили туда на заработки. О том, как ценились аргирупольские инженеры-разработчики серебряных рудников, я уже писал. Понтийцы славились также как прекрасные каменотесы и строители. Недавно узнал, что они были основными рабочими на строительстве первого трубопровода Баку-Батум и первых железных дорог Грузии. Так что для понтийских греков дорога в Грузию была уже проторена. В Грузии в начале ХХ в. существовало много греческих деревень, а греческие ремесленники были на хорошем счету в крупных городах.
В Батуме в то время уже проживала многочисленная семья бабушкиных дальних родственников Илиопуло-Анастасиади. За три года до приезда Дионисиади они переселились в Батум из турецкого города Ризе, который находится недалеко от Трапезунда, и уже успели обжиться. Четыре брата Илиопуло – Харико, Софокл, Георгий и Алеко стали отцу как родные братья. Все они в свое время попадут в Гулаг, где Алеко погибнет, а Софокл разделит участь моего отца – на прииске Сусуман на Колыме. Была у них еще красавица сестра Парфенопи.
На Кавказе, как известно, близкий родственник не только тот, кто близок по крови, но и тот, кто близок по своим душевным качествам. Это душевное родство с семьей Илиопуло, подкрепленное общностью судеб, отец ощущал до конца своих дней и передал нам, своим сыновьям, а через нас следующим поколениям.
Видимо, еще один близкий отцу человек жил в это время в Батуме. В своей автобиографии отец пишет, что приехал в Батум вместе со своим другом Димитриосом Парцалидисом, с которым «неразрывно духовно был связан до 1927 г.». Но я ничего не знаю о «батумском» периоде их дружбы.
Николай Дионисиади в Батуме.

В Батуме отец и бабушка стали греческими подданными. Дело в том, что после подписания Лозанского договора (1923 г.) Греция стала предоставлять греческое гражданство всем переселенцам из Турции, независимо от того, в какие страны они переезжали. Греческое гражданство на советской почве позже, в 1937 г., сыграло роковую роль, но тогда, в начале 20-х, это было радостное событие.
Обосновавшись в Батуме, отец стал работать в магазине состоятельного грека, где выполнял разные мелкие поручения. Будучи юношей смышленым и по тому времени достаточно образованным для своего возраста, отец быстро зарекомендовал себя достойным помощником и вскоре вел всю бухгалтерию хозяина.
Забегая вперед, скажу, что в студенческие годы за феноменальную способность производить арифметические действия в уме он был прозван товарищами Арифмометром. Много позже на Колыме его звали уже Академиком…
Бабушка работала дома на примитивной чулочной машине. Через пару лет они уже накопили кое-какие средства и даже организовали две кустарные маслобойни. Краткий период НЭПа позволил им это сделать.
Уже в эти молодые годы проявился характер отца – необыкновенная работоспособность, умение зарабатывать деньги, и главная черта – сила характера, которая позволяла ему, потеряв все, не сломаться, а начать все заново. Таких «нулевых» циклов у него было много, так что можно сказать, что он прожил несколько жизней…
Один из таких ранних эпизодов, приоткрывающих характер отца, – пожар на его маслобойне. Когда ему сообщили, что маслобойня охвачена огнем, он, понимая, что с пожаром не справиться, отправился не на пожарище, а в духан (кавказский трактир). На возмущенные возгласы окружающих он ответил: «А что я могу сделать? Самому что ли бросаться в пламя?». Действительно, зачем убиваться по тому, чего уже не вернуть? Лучше собраться с силами и продолжать свое дело или начать что-то новое. Такова была жизненная позиция отца.
Вообще о батумском периоде жизни отца я знаю очень немного. Слишком мало мне пришлось жить с ним и бабушкой по известным причинам, о которых расскажу позже, а мама и ее семья рассказывали о батумской жизни лишь со слов бабушки Виргинии, которую я практически совсем не помню.
Николай Дионисиади (в центре)

Знаю, что отец увлекался охотой. Прихватив ружья, он с приятелями отправлялся на охоту, правда, частенько такие поездки превращались просто в веселые загородные пикники. Но, как известно, ружье, даже висящее на стене, когда-то должно выстрелить. Так и произошло: охотничье ружье «Зауэр три кольца», которое нашли при обыске в 1937 г., добавило ему к другим статьям обвинение в терроризме.
На охоте.

Отец был прекрасным пловцом, любил делать дальние заплывы. Со слов мамы знаю, какой переполох он однажды устроил, будучи уже женатым и приехав на отдых в Батум из Тбилиси. По старой памяти он решил устроить заплыв, при этом взвалил себе на спину пятилетнего маминого племянника. Какая же была паника, когда они скрылись из виду и не показывались довольно долгое время. Да, отец был уверен в своих силах, но и авантюризм был у него в крови.
Ни работа у богатого грека, ни занятие маслобойней, ни пирушки, не заслоняли главного – желания получить дальнейшее образование и добиться большего в жизни. Для этого в 1927 г. отец с бабушкой переезжают в Тбилиси (тогда он назывался Тифлис), славный город Тбилиси, который мне все чаще и чаще снится по беспокойным ночам на закате моих преклонных лет…
Начался новый, «тбилисский», период, который принес и много радости, и много горя семье Дионисиади.

Глава 3
Тифлис/Тбилиси. 1927- 1937
Ах, Тбилиси, Тбилиси – моя милая «чужая» родина. Часами любовался я тобой, сидя на широченном подоконнике нашей квартиры на северной нагорной окраине старого города, заворожено смотрел на развалины древней крепости Нарикала, рисуя в своем воображении картины былых сражений, наблюдал за фуникулером горы Мтацминда на южной окраине древнего города, в 3-4-х километрах от моего дома на Чугуретской ул. Уже не осталось ни названия моей родной улицы, ни ее обитателей, которые щедро делились со мной и моими братьями в самые тяжелые для нас годы не только своими душевным теплом, но и последним куском хлеба. Грезя бессонными ночами о возвращении в Тбилиси, с ужасом осознаю, что это теперь вряд ли возможно: мое кое-как заштопанное недавно сердце не выдержит той очевидности, что нет уже родного города моего детства. Но прочь лирические отступления…
Переехав в 1927 г. в тогда еще Тифлис, отец устроился прорабом в строительной артели, состоящей из понтийских греков Цалкинского района, славившихся каменотесными и строительными работами. И одновременно учился, сначала в техникуме, а затем, с 1931 по 1936 гг., в Политехническом институте, который к окончанию учебы отца переименовали в Закавказский индустриальный институт. Сейчас это Грузинский технический университет, ведущий и крупнейший технический университет Грузии.
1. И в “Тбилисский период” отец часто бывал в Батуми.

2. В Батуми. 30-е годы. Н.Л. Дионисиади в последнем ряду, третий справа

Как-то раз компаньон отца в строительном деле ввел его в дом большой семьи Арутюновых. Это событие стало судьбоносным для отца. Здесь он познакомился с моей будущей матерью Евгенией Петровной Арутюновой. Она была самой младшей дочерью в большой патриархальной семье состоятельных и довольно образованных тбилисских армян.
3. Отец с мамой и племянницей Арусь.

4. Отец с мамой.

Отец матери, Петрос Арутюнов, занимался выработкой и продажей кож. А бабушка была из рода Ходжабековых. Я не знаю генеалогическое древо семьи моей бабушки, но история фамилии Ходжабековых сама по себе очень интересна и переносит нас совсем в другой регион – в Среднюю Азию, в Бухарский эмират.
5. Моя мама Евгения Петровна Арутюнова в детстве.

Фамилия купцов Ходжабековых числилась среди богатейших фамилий бухарских евреев. Надо сказать, что бухарские евреи издавна контролировали торговлю в Средней Азии. В свое время в их руках была не малая доля торговли на Великом Шелковом Пути. В XIX в. они играли важную роль в торговых взаимоотношений между Бухарским эмиратом и окружающим миром, в частности с Россией. Со своими караванами они ходили в Россию, Западную Европу, Иран, Турцию и Палестину. Эмиры часто пользовались их услугами, приближали наиболее выдающихся из них, назначая министрами и советниками, некоторым давали имена-звания, и это считалось высочайшей милостью. Так, по преданию, одному своему советнику из евреев бухарский эмир дал почетный титул Ходжа Бек. Бек – господин, а Ходжа означает «обладающий большими знаниями, наставник, учитель». С него началась фамилия Ходжабековы.
Моя бабушка Мария Соломоновна Ходжабекова (домашние ее звали Мака), живя в Тифлисе, приняв крещение и став Арутюновой, тем не менее, сохраняла некоторые традиции предков, например, категорически отказывалась есть свинину. Ее отец, мой прадед, Соломон Ходжабеков скорее всего тоже жил уже в Грузии, но как и его предки, был успешным и богатым купцом, возил товары в разные страны. Но однажды во время торговой экспедиции на него напали разбойники, и Соломон трагически погиб. Моей бабушке Марии было тогда всего 14 лет, но по тем временам вполне зрелый возраст, и ее родственники выдали ее замуж за не очень состоятельного, но очень добропорядочного предпринимателя с безупречной репутацией Петроса Арутюнова. После женитьбы Петрос разбогател. Скорее всего, вместе с юной женой он получил хорошее приданое. У Петроса было два предприятия по выработке кож и производству кожаных изделий. Одно в Тбилиси, другое в Кутаиси (говорят, оно работает до сих пор). Помимо этого были склады оптовой и розничной торговли, магазины и т.п.
6. Дед Петрос Арутюнов справа.

7. Петрос Арутюнов крайний справа. Тифлис, 1908.


До советской власти у деда с бабушкой был особняк в центре старого города, а на тогдашней окраине старого города, над крутым обрывом армянского района Авлабар, на Цициановской ул., он построил большой (по тем временам) 2-х этажный дом с просторными погребами, которые были полны вин и снеди. Даже в летний зной они давали спасительную прохладу.
Я с малых лет был наслышан о пригоршнях золотых монет, которые были брошены под четыре угла фундамента при начале строительства, чтобы дом крепко стоял, и жизнь в нем была бы счастливой. И впрямь, дом до сих пор стоит на самом краю обрывистой скалы, откуда как на ладони виден весь город и река Кура. Только никто уже из потомков деда там не живет. В этом доме, в просторной комнате моего старшего дяди, прошла немалая часть и моего детства. В комнате напротив жил его младший брат. Помню, как по праздникам там собиралась вся большая семья. Еще из воспоминаний детства остался железный узорчатый балкон, куда в летнюю жару выставляли таз с водой, вода быстро нагревалась, и я плескался там часами.
Петрос скончался от удушья угарным газом в 1910 г., когда моя мама была еще совсем маленькой. После себя он оставил 7 детей. До сих пор не могу понять, как в одной семье могут вырасти и очень дружно жить такие разные люди…
Старший Арташ (Арутюн) пошел в отца и был прирожденным предпринимателем. Вплоть до прихода советской власти он вел все коммерческие дела семьи. После того, как большевики все отобрали, не гнушался никакой работой: от нелегальной торговли на базаре шашлыком, который сам же готовил на компактном мангале, и до освоения ремесла классного переплетчика. Дожил почти до 90 лет, а в 85 плясал на столе ресторана Арагви на свадьбе моего старшего брата Лазаря. Вот бы мне так…
9. Арташ (Арутюн) Арутюнов – сын Петроса.

Второй Гарегин – гордость всей семьи, учился в Санкт-Петербурге и служил офицером царской гвардии, но заболев чахоткой, был вынужден вернуться в Тифлис. Большевики его не расстреляли, видимо, потому, что он и так уже умирал, а может ради младшего брата Александра.
Дядя Саша был не просто активным членом партии, он был одним из создателей пионерской организации Грузии. До развала Советского Союза его имя занимало почетное место в местном краеведческом музее.
10. Александр Арутюнов (слева) с другом семьи Дандуровым.

Будучи номенклатурным партийцем, занимал руководящие должности – директор стекольного завода, суконной фабрики, армянского драматического театра и т.д. Помню, что в те времена у него была персональная машина – эмка. Тогда это было большой редкостью.
Младший из братьев – Левон – был лихим парнем. Гуляка, драчун, очень взрывной. Он боготворил свою мать и, как часто это бывает, больше всех доставлял ей горести. За шишковатый лоб его звали Копиян Левон (т.е. шишкастый). Помню его очень смутно, т.к. я был еще очень мал, когда его посадили в 40-м году и через непродолжительное время объявили, что он умер от дизентерии. Скорее всего, убили, т.к. слишком уж он был непокорный и в отличие от других членов семьи никогда особенно не скрывал, что презирает эту бандитскую власть.
Самой старшей в семье была Эгроп. К моменту, когда родилась моя мама, у старшей сестры была не только своя семья, но и 7-летняя дочка Арусь. Так что, когда моя мама осиротела, Эгроп стала ей матерью, а племянница Арусь старшей сестрой.
11. Егроп Арутюнова (старшая сестра мамы)
с мужем Сергеем Папяном и дочерью Арцсь. Тифлис, 1911.

12. Мама со старшей сестрой Егроп и племянницей Арусь.

13. Мама и Арусь.

14. Мама крайняя справа.

15. Мама с подругой.

16. Мама – крайняя слева.

Вторая сестра мамы – Сирануш – была немного младше Эгроп, и когда родилась мама, тоже уже имела свою семью.
Маме было 14 лет, когда в Грузии установилась советская власть. Первым делом большевики конфисковали почти все имущество семьи Арутюновых: фабрики по переработке кож, склады оптовой торговли, большую часть драгоценностей, в доме, который им принадлежал, оставили для них две комнаты… Бабушка не перенесла такого удара, ее парализовало, и вскоре она умерла.
Мама, как самая младшая, была любимицей в семье, все ее баловали, особенно после смерти матери, жалели и оберегали, поскольку она не отличалась сильным здоровьем и часто болела. В результате воспитали ее совсем неподготовленной к тем тяготам жизни, которые ей были уготованы судьбой.
Родители поженились в 1930 г. Не знаю, где сначала поселились молодые, но себя я помню в той квартире, где прошло мое детство. Это дом на пригорке, с фасада трехэтажный, а сзади, с параллельной улицы, одноэтажный, как, впрочем, все дома на нашей Чугуретской улице, которая тогда называлась Арсенальное шоссе. Недалеко, позади нас, проходила железная дорога, а за ней пустырь. В общем, окраина, но какая!… На горе, весь центр старого города перед глазами. Наша квартира была шикарной – четыре большие комнаты с отдельным парадным подъездом, который вел прямо на наш 2-й этаж. Двор очень маленький, весь окруженный в основном застекленными балконами. В этом дворе собственно и протекала вся жизнь. В доме жило больше десятка семей семи национальностей.
17. Отец на даче с племянниками. Цхнет, 1935.

18. Отец (справа) с Александром Арутюновым
и женой их друга Сирануш Абрамян.

Отец очень много работал, а вечерами еще и прирабатывал дома, составляя строительные сметы. Мама их перепечатывала на пишущей машинке. Отец зарабатывал настолько хорошо, что мог себе позволить оплачивать домработницу.
Бабушка Виргиния жила вместе с ними. До женитьбы сына у бабушки не было большой необходимости в знании русского языка. Круг общения ограничивался родственниками и знакомыми греками, и ей вполне хватало греческого. Надо сказать, что бабушка, кроме того, свободно владела турецким и французским языками, немного понимала армянский (хотя не признавалась в этом). Но общение с новыми родственниками и соседями по дому было в основном на русском языке. А бабушке русский давался с большим трудом, и она частенько становилась объектом незлых шуток новой родни. «Я хочим будем говорим, не знаем, на каком языком будем говорим», – копировала ее мама. Виргиния была труженицей и корила свою невестку, которая любила подолгу утром нежиться в постели: «Аджаба, пойдем-придем, пойдем-придем, а ты свой жоп с кровать не поднимешь». Я, конечно, знаю все это со слов мамы. Потом, в сибирской ссылке, она часто будет с ностальгией вспоминать свою мудрую свекровь.
Теплые отношения с родственниками, соседями и друзьями вкупе с традиционной кавказской гостеприимностью создавали тот непередаваемый колорит уклада жизни моих родителей, отзвуки которого еще застало мое детство. Теперь лишь уходящее сентиментальное поколение тоскует о золотых прошлых временах, когда знали всех соседей не только по дому, но и почти по всем близлежащим домам убана (района, квартала).
Жизнь шла своим чередом – рождались дети. В 1931 г. родился первенец, которого нарекли именем давно умершего деда – Лазарем. В 1934 г. родился я, а еще через три года младший брат Дима. Бабушка была на вершине блаженства. Наконец и ее жизнь наполнилась каким-то смыслом и содержанием. Она в полном смысле слова не доверяла молодым родителям воспитание внучат, отдавая им все свое время и душевное тепло.
19. Бабушка Виргиния со старшим внуком Лазарем.

Итак, бабушка с внуками лепечет на понтийском диалекте греческого, мама на русском, мамина родня на армянском, а кругом слышна еще и грузинская речь. С ума сойти! Вот почему я начал разговаривать лишь к трем годам. Правда, почти сразу правильно.
Бабушку Виргинию я практически не помню. Только один эпизод: мы сидим вокруг зажженной керосинки и поджариваем на огне лаваш. О ней очень много мне рассказывали родственники и соседи. Лицо у нее – с него иконы писать. Как и все понтийские греки глубоко набожная, не на показ. В общении с соседями и родственниками очень доброжелательная. Как и ее сын, никогда без дела не сидела. До появления внуков, когда было много свободного времени, любила читать. У отца была небольшая, но уникальная библиотека, старинные книги на греческом и французском языках.
Я родился 18 декабря 1934 г. рослым и увесистым. Так уж получалось, что в роду Дионисиади уже несколько поколений рождались исключительно мальчики, и судьба их была не из легких. Поэтому после первого сына отец очень ждал девочку. Но как говорится, на все Божья воля. Мама говорила, что я родился в «рубашке» – признак того, что ангел-хранитель меня не покинет никогда, и действительно, сколько раз я стоял на самом краю гибели, и всякий раз в последний момент меня спасало какое-то чудо.
Жарким летом рокового 1937 г. появился на свет мой младший брат, названный в честь друга Парцалидиса Дмитрием. В отличие от старших братьев он родился светленьким, в породу Арутюновых. Моя мама в детстве тоже была светло-русой и только во взрослом возрасте стала брюнеткой. Отец и на этот раз ждал девочку. Желание его было таким сильным, что Диму первое время даже одевали как девочку. Родители решили, что в следующий раз уж точно будет дочка. Но следующего раза не случится…
В ночь с 15 на 16 декабря 1937 года под нашими окнами остановился автомобиль, и в квартиру постучались чекисты. До самого утра шел обыск. Ворошили вещи, листали книги на непонятных языках, приданое мамы – энциклопедию Брокгауза. Вели себя вполне прилично. Более того, когда один из них хотел обыскать прикроватную тумбочку, рядом с которой спали дети, старший из них по званию строго приказал: «Не надо, дети проснутся». Ох, сколько лет потом мама благословляла его. Ведь там лежали все драгоценности, которые нас еще долго кормили. Незадолго до рассвета составили протокол, забрали упомянутые уже охотничью двустволку и пишущую машинку, а также примитивный фотоаппарат «Фотокор», купленный недавно ко дню рождения Лазика.
Когда отца уводили, он спокойно сказал: «Женя не волнуйся, это недоразумение».
Откуда было ему знать в тот момент, что это было не недоразумение, а начало спланированной акции НКВД, вошедшей в историю под названием «Греческая операция». За две декабрьских недели 1937 г. были обезглавлены многие тысячи греческих семей. Практически все греки, имевшие греческое гражданство, были арестованы. О Греческой операции и о репрессиях против греков в СССР подробно написано в книге И. Джуха. Греческая операция. СПб, изд-во Алетейя, 2006.
Декабрь, бывший для нас самым счастливым, праздничным месяцем – дни рождения (мой – 18-го, отца – 19-го, мамы – 24-го), Рождество, Новый год – оказался в 1937 г. самым черным в истории нашей семьи. Он навсегда разделил нашу жизнь на до и после…
20. Наш дом на ул. Чугуретской,
на балконе – младший брат Дима
с соседской девочкой Кетино Бежанишвили.

21. Современный Тбилиси. Сохранившийся дом деда Петроса.

Глава 4
“Будь проклята ты, Колыма…”
После ареста отца мать металась как в агонии: как быть? что будет? расстреляют – не расстреляют? Эти вопросы ежечасно терзали всех нас долгие полгода. Хотя мы с Димой были еще совсем маленькие и мало что понимали, но общее нервное состояние передавалось и нам.
Переписка и свидания были запрещены. Можно было только носить передачи в тюрьму, где содержался отец. Если у кого-то передачи переставали принимать – это означало конец: человек расстрелян. Если передачи принимали, то надежда еще продлевалась. Так продолжалось до начала июля, когда отцу предъявили стандартное обвинение – ст. 58 – КРД (контрреволюционная деятельность). Отцу вменялись совершенно абсурдные, но, по тем временам, обычные вещи: террор (основание – найденная при обыске охотничья двустволка Зауэр), шпионаж (фотоаппарат, подаренный Лазику) и антисоветская пропаганда.
До ареста отец активно переписывался с Димитрисом Парцалидисом (тогда уже крупным деятелем Компартии Греции) и получал от него греческие газеты, что послужило основанием для обвинения его в получении и распространении среди греков Закавказья фашистской литературы. А конфискованная пишущая машинка, на которой мама перепечатывала строительные сметы отца, «свидетельствовала» о тиражировании антисоветской литературы. Также стандартными были приемы для получения признания человеком своей вины, даже самой абсурдной, – запугивания, обман, избиения. Как позже признавался отец, подписывая признания, он надеялся на суде доказать свою невиновность. Наивный человек… Какой суд? Особое совещание при НКВД штамповало обвинительные приговоры без суда, без следствия, даже присутствие обвиняемого не требовалось. Так, 2 июля 1938 г. отцу сообщили, что он приговорен к 10 годам ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей) на Колыме.
Большинство греков СССР получило тогда точно такой же приговор. В упоминавшейся мною книге Ивана Джухи «Греческая операция» (СПб., 2006) по сотням документов, писем и воспоминаний скрупулезно воссоздана жуткая картина репрессий против греков 30-40-х годов – от арестов до расстрелов и жизни и смерти в лагерях. История моего отца тоже стала частью этой картины. Также как и история родных для отца братьев Илиопуло – Софокла и Алеко (Александра), живших в Батуми. Внук Софокла, Андрей Илиопуло, помнит рассказы деда о том, как все происходило. Сначала пришли брать Софокла, но дома оказался только брат Алеко. Его посадили в машину и сказали: «Поедем, покажешь, где Софокл». Больше его не видели, домой он не вернулся. Произошло это во время все той же Греческой операции – в декабре 1937 г. А Софокла арестовали чуть позже, в начале следующего 1938 г. После войны, в 1948 г., арестовали Харико и Жору (Георгия) Илиопуло. Первый прошел тот же путь на Колыму, что и мой отец и младшие братья Илиопуло. А второму «повезло» – его «всего лишь» сослали в Казахстан, откуда в 1956 г. ему удалось уехать в Грецию.
А вообще фамилия Илиопуло установила на Колыме печальный рекорд по наибольшему количеству родственников с одной фамилией – 6 человек!
В конце июля 1938 г. большую группу осужденных греков отправили поездом во Владивосток, а оттуда их должны были этапировать на Колыму. Дорога заняла почти два месяца, до Владивостока они добрались 21 сентября. Не знаю, прибыли ли они одним этапом с отцом или разными, но во владивостокской пересылке в одно время оказались также Софокл и Алеко Илиопуло. Жизнь снова переплела их судьбы, теперь уже в тяжелейших, трагических обстоятельствах. С Софоклом отец последние годы срока отбыл на одном и том же прииске Сусуман, а Александр не дожил до лагерей, он умер во Владивостоке в декабре 1938 г.
В пересыльном лагере во Владивостоке отец пробыл восемь месяцев. И хотя он был от нас в нескольких тысяч километров, мы смогли наконец-то получать от него письма. Первое время переписка шла односторонняя, до нас его письма доходили, а мамины письма отцу нет. Какова же была его радость, когда в январе 1939 г. он получил первое письмо с фотографией детей.
В первых письмах отец просил в основном об одном – ехать в Москву, в греческое посольство, и ходатайствовать. Тогда там работал его старый друг Федор Караянопуло, на помощь которого он рассчитывал.
Долгое пребывание во Владивостоке, задержка с этапированием на Колыму, да еще то, что до него стали доходить письма из дома, породили надежду, что, может быть, что-то сдвинулось в его «деле». В каждом письме он просит энергичнее хлопотать за него в Москве, в греческом посольстве. Кроме того, в одном из писем он спрашивает была ли Виргиния у Вышинского? Наверное, у него закралась мысль, что Д. Парцалидис (к этому времени он входил в ЦК Компартии Греции) по своим каналам пытается помочь ему. В конце января 1939 г. он пишет: «… я думаю, что в феврале-марте нас будут этапировать в сторону запада, ближе к дому. А, может быть, и в сторону, где тетя Оля, сестра мамы. … Я живу надеждой, что скоро встретимся». В переводе с эзопова языка это означало: возможно, скоро мне разрешат вернуться домой или всем нам разрешат уехать в Грецию (тетя Оля, сестра Виргинии, жила в Салониках). Отец не знал, что весной 1938 г. Д. Парцалидиса тоже арестовали, и он пробыл в тюрьмах до 1944 г. Так что друг детства никак не мог ему помочь…
Надежды рухнули, когда в июне отца отправили на Колыму. Единственный путь из Владивостока в колымские лагеря – морем, до бухты Нагаево, где находился поселок Магадан. Задраенные трюмы кораблей были битком набиты людьми, их количество доходило до 3-5 тысяч человек. Переход длился восемь-девять дней, страшно себе представить, что там творилось во время шторма. Бухта Нагаево известное место по воспоминаниям Виктора Шаламова, Георгия Жженова и других классиков «гулаговского жанра», которые прошли тем же этапом, что и отец.
Надо сказать, что я никогда не слышал от отца воспоминаний об этом времени. Не знаю, может быть, ему было невыносимо вспоминать лагерную жизнь, может быть, он не хотел ожесточать наши сердца, ведь тогда мы были комсомольцами и до мозга костей советскими людьми. Может быть, жизнь научила его быть предельно осторожным, и он боялся давать нам «лишнюю» информацию, проговорившись о которой, мы могли погубить себя. Вот только во время застолий в сибирской ссылке, да потом и в Москве он затягивал одну и ту же песню «Я помню тот Ванинский порт», гимн колымских зеков…
Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные, мрачные трюмы.
На море спускался туман,
Ревела стихия морская.
Лежал впереди Магадан –
Столица Колымского края.
Не песня, а жалобный крик
Из каждой груди вырывался.
“Прощай навсегда, материк!” –
Хрипел пароход, надрывался.
От качки стонали зека,
Обнявшись, как родные братья.
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья.
– Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой!
Сойдешь поневоле с ума –
Оттуда возврата уж нету.
Пятьсот километров – тайга.
В тайге этой дикие звери.
Машины не ходят туда.
Бредут, спотыкаясь, олени.
Там смерть подружилась с цингой,
Набиты битком лазареты.
Напрасно и этой весной
Я жду от любимой ответа.
Не пишет она и не ждет,
И в светлые двери вокзала,
Я знаю, встречать не придет,
Как это она обещала.
Прощай, моя мать и жена!
Прощайте вы, милые дети.
Знать, горькую чашу до дна
Придется мне выпить на свете!
Все немногие сведения о колымской жизни отца я узнал уже позже из рассказов Софокла Илиопуло.
В период перестройки, когда горстка энтузиастов под руководством А. Д. Сахарова создала Историко-просветительское Общество Мемориал, я был одним из создателей Объединения жертв необоснованных репрессий, и первые четыре года входил в состав его Городского Совета. Вот тогда я с головой окунулся в изучение постигшего нас ужаса вместе с почти случайно выжившими в детдомах отпрысками таких фамилий как Смилга, Косиор, Фельдман , Антонов-Овсеенко и др. Только тогда я понял, что на самом деле пришлось пережить отцу. Я понял, что стояло за скупыми фразами его писем с Колымы – «Дорогая Женя, убедительно прошу тебя хлопотать по моему делу, ибо я не в состоянии перенести здешний климат, суровую зиму с большим трудом. Продай все, выезжай в Москву и хлопочи» (август 1940 г.), «… я еще 7 лет не выдержу кошмара Колымы. Каждый час дорог, действуй и хлопочи, о результатах телеграфируй»» (ноябрь 1940 г.). (Все сохранившиеся письма отца опубликованы в книге Ивана Джухи «Пишу своими словами…». СПб, 2009).
Отца сначала отправили на прииск Верхний Ат-Урях, а потом перевели на прииск Сусуман. Осужденные по 58-ой статье, т.е. политические, определялись на самые тяжелые работы, и сначала отца отправили в забой. Работа в забое практически не оставляла шансов на выживание. Отца, видимо, спасло то, что, как человека образованного и имеющего специальность, его время от времени использовали на должностях учетчика, нормировщика и бухгалтера, а затем на Сусумане он работал по специальности – прорабом и начальником стройцеха. Все эти колымские должности отец перечислил в листке по учету кадров, который заполнял уже в красноярской ссылке.
Современному человеку даже трудно себе представить, как можно было выжить в лютом холоде, когда вместо одежды были какие-то лохмотья, при хроническом голоде, при изнуряющей физической работе и при нависшем дамокловым мече – возможности расстрела в любую минуту без всякого повода, по прихоти администрации.
Здесь не могу не процитировать воспоминания Виктора Шаламова, который отбывал свой срок на соседнем с Верхним Ат-Уряхом прииске «Партизан».
«Самым, пожалуй, страшным, беспощадным был холод. Ведь актировали (имеется в виду отмена работы с зачетом трудодней – А.Д.) только в мороз свыше 55 градусов. Ловили вот этот 56-й градус Цельсия, который определяли по плевку, стынущему на лету, по шуму мороза, ибо мороз имеет язык, который называется по-якутски «шепот звезд». Этот шепот звезд нами был усвоен быстро и жестоко. Первое же отморожение: пальцы, руки, нос, уши, лицо, все, что прихватит малейшим движением воздуха. В горах Колымы нет места, где не дули бы ветры. Пожалуй, холод — это самое страшное».
То же самое я испытал на собственной шкуре, работая в Якутске зимой 1955/56 года на межнавигационном ремонте судов, вмерзших в 2-х метровый лед, но об этом позже.
Подтачивал силы и постоянный изнуряющий голод. Норма пайка была мизерная, и по вечерам заключенные собирались около столовской помойки в ожидании, когда выбросят селедочные головы, чтобы сварить из них баланду. В тех условиях очень быстро начиналась цинга. Тем не менее, отец в письмах из Колымы редко просил продуктовые посылки, понимая, что мы сами нуждаемся. Но даже те посылки, которые мама отправляла в лагерь, или возвращались обратно, или присваивались администрацией и уголовниками.
Надо сказать, что с попустительства, а то и с поощрения администрации политических заключенных терроризировали уголовники. Они цинично заявляли: «Я убил одного человека, а вы всю мою страну загубить хотели». Но отцу удалось выстроить с ними отношения, к концу срока уголовники уважительно называли его Академиком за умение толково составлять всякие прошения, жалобы, ходатайства и т.д.
Письма с Колымы приходили все реже и реже. Зимой, когда прекращалась навигация с «материком», прерывалась и эта тоненькая связь с домом. Не знаю, от чего отец страдал больше от голода, холода, невыносимых условий или от отсутствия писем, от неизвестности, что с мамой, женой, детьми. В отчаянии он писал: «я уже 8 месяцев не имею сведений от тебя. … Письмо ж единственное, что может меня поддержать». Может и сейчас хранится пачка маминых писем, не прошедших цензуру и поэтому не дошедших до отца, где-нибудь в архивах НКВД…
Во время войны связь с домом прервалась полностью. Хочу привести письмо отца, которое он написал 11 декабря 1946 г. в ответ на первое за четыре года известие от мамы:
«Дорогая Женя!
Вчера получил твою телеграмму и не могу описать тебе мою радость, не мог зайти в общежитие, так как не мог остановить слезы, плакал как ребенок от радости, пойми это единственное известие от тебя за 4 года. Что со мной будет, если я получу твой снимок с детьми, не могу себе представить, а если вас увижу, наверное, с ума сойду. Наша встреча это единственное, что меня поддерживает, и надеюсь, переживу после 9 лет еще год и удастся мне встретить тебя и детей. Но в этом нужна и твоя помощь, добивайся досрочного освобождения, реабилитации и выезда к тебе, в этом тебе поможет Димитрий Парцалидис, он Генеральный секретарь Национально-освободительного фронта Греции (ЭАМ), бывает, наверное, в Москве, и он должен тебе помочь, он мой воспитанник и верный мне до гроба друг, посоветуйся с Сашей и обратись к нему.
После телеграммы жду письма, чтобы узнать хоть что-нибудь о вашей жизни. Как дети? Что делают? Где учатся? Жива ли мама? И где она? Где Саша, Нина, Левон, Гарегин, Арусь и все наши родственники и друзья? Или они были друзьями в хорошие времена, а сейчас забыли нас? Мне все интересно, пиши обо всем подробно.
Если тебя не затруднит, вышли мне посылку, только табаку (рассыпной махорки) и больше абсолютно ничего по адресу: Магадан, Сусуман, Западное горно-промышленное управление. Комендантский ОЛП. Дионисиади Николаю Лазаревичу.
Телеграммы и письма по старому адресу Сусуман, Хабаровск, Промкомбинат.
Вручаю тебе письмо на греческом языке моему другу Димитрию Парцалидису, о нем я тебе писал выше, прими все меры, чтобы это письмо попало ему. Если письмо это попадет ему, наша встреча обеспечена.
Целую крепко, крепко тебя и детей. Ника.»
Надо ли говорить, что письма к Парцалидису в конверте не оказалось…
15 декабря 1947 года наступило долгожданное освобождение, но отъезда с Колымы пришлось дожидаться до февраля, когда заполнился пароход, увозивший вчерашних зеков из колымской бухты Нагаево в Ванинский порт Владивостока. Обратный путь в трюмах мало чем отличался от того, что было десять лет назад. Благодаря задержке на Колыме, отец «дождался» освобождения Софокла Илиопуло, и путь до Москвы они проделали вместе.
Сойдя на берег во Владивостоке, они поняли, что добираться дальше до Москвы и затем до дома им не на что. Никто билетов освободившимся зекам не выдавал, а денег у них не было ни копейки. Но эта ли проблема для людей прошедших 10 лет лагерей и выживших в нечеловеческих условиях?… Из подобранной у дороги старой автомобильной камеры они нарезали сотню резинок для трусов. На базаре их расхватали в один миг. Заработанных денег хватило и на еду, и на билет до Москвы…
В Москву отец приехал 6 марта 1948 г. и остановился у родственников. На следующий день он пишет маме:
«…. Сейчас, Женя, послушай о следующем. Т.к. право прописки в Тбилиси пока не имею, о моем приезде шуму не подымайте, лучше, чтобы не все знали. Встречай одна с Олей (друг семьи – А.Д.), без детей, а то пусть встречает одна Оля, если не надеешься на свое самообладание. Самое главное – без шуму. Выеду 11 марта в 16 ч. 25 м поезд № 13, вагон № 1….».
Через несколько дней во двор нашего дома в Тбилиси вошел невысокий, сморщенный человек, с выражением какой-то вины в голубых глазах, без зубов, в байковом костюме мышиного цвета и фанерным чемоданчиком в руке. Его взгляд остановился на мне, сидевшем в тот момент на ступеньках нашего дома…
О нашей встрече я расскажу подробнее чуть позже, ведь она относится уже не к колымской, а к тбилисской истории жизни нашей семьи…
Лагерь Мальдяк около Сусумана. (Фотография из интернета).

2.
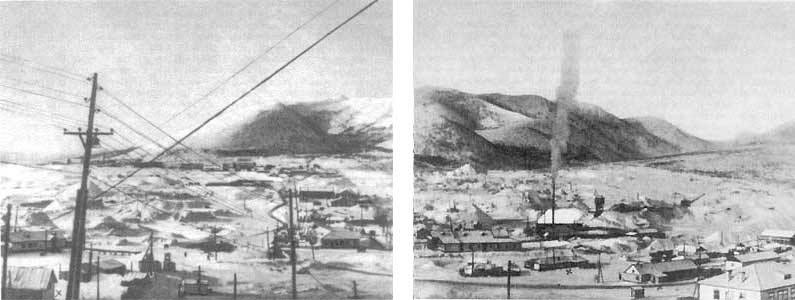
Письмо из Владивостока 3 октября 1938 года.


Глава 5
“Салоники”
После объявления приговора отцу наступила хоть какая-то определенность и даже можно сказать, что стало немного спокойнее: ведь отца не расстреляли, как многих греков, арестованных во время «Греческой операции», и хотя его отправили в лагеря в такие отдаленные края, что мало кто о них до этого слышал, но тем не менее сохранялась надежда, что через 10 лет, а может быть и раньше, он вернется, и все будет как прежде… Если бы мы тогда знали, что это были за 10 лет колымских лагерей…
Мама с бабушкой стали потихоньку обустраивать нашу «жизнь без отца». Жили скромно, но не голодали. Мама постепенно продавала свои драгоценности, которые чудом не обнаружили во время ареста отца. Бабушка Виргиния жила любовью и заботами о внуках и только по ночам тайком от мамы плакала в подушку.
Казалось, что жизнь как-то стабилизировалась, но Молоху сталинской системы было мало одной жертвы от нашей семьи…
В начале 1939 г. бабушку Виргинию пригласили в НКВД и сказали, что ее сына по всей вероятности депортируют как иностранного подданного в Грецию, и что ей лучше уехать туда и ждать. При этом «доброжелательно» намекнули, что они люди подневольные, и никто не может предугадать, какие решения будут приняты в Москве относительно оставшихся пока на свободе членов семей «врагов советского народа»…
Выбора у бабушки не было. С одной стороны, возможность воссоединения семьи в Греции, где к тому времени жила вся ее родня и Д. Парцалидис (она не знала, что тот уже арестован). С другой, разлука с любимыми внуками и невесткой, к которой она успела привязаться. Несмотря на плохое знание русского языка и от этого трудности в общении, у Виргинии было много друзей. Надо сказать, что она очень нравилась не только маминой родне, но и всем, кто ее успел узнать, особенно нашим соседям, а беда, свалившаяся на ее голову, сделала отношение к ней еще более теплым и сердечным.
В твердой уверенности, что семья воссоединится в Греции, она решила забрать с собой все, что было можно, и в первую очередь швейную машину Зингер. Она умоляла мать отдать ей с собой хоть одного из трех внуков. Больше всего она любила самого старшего – Лазика, которому было уже 8 лет, и он довольно прилично понимал понтийский диалект греческого языка. Кстати, только он и запомнил ее очень хорошо. Но взять она была бы рада любого из нас. «И тебе будет легче прокормить двоих и мне будет утешение, пока вы не приедете», – говорила она. Но какая армянская мать добровольно отдаст свое дитя… Я не помню такого эпизода, но бабушка в одном из своих писем вспоминала, что я готов был отправиться вместе с ней в Грецию и даже побросал свои вещи в ее сундук. И она, чтобы избежать душераздирающих сцен при расставании, вынуждена была уйти не попрощавшись со мной и не поцеловав меня на прощание. Это мучило ее долгие годы…
Отчаявшись, на память о внучатах она взяла в Грецию снятые с нас маечки, навсегда сохранившие, как ей казалось, тепло и запах наших тел…
Проводы корабля из Батумского порта были бы достойны пера Эсхила. Люди в толпе теряли сознание, были и летальные исходы, кто-то бросался в море с уже отчалившего парохода. Мама видела все это своими глазами и не могла забыть до самой смерти.
Таких несчастных, как моя бабушка, были сотни. Они оставляли своих отцов, мужей, детей в сталинских застенках и уезжали, чтобы больше их не увидеть. По данным, Ивана Джухи, которого я уже не раз цитировал, за 1938-1939 гг. из СССР в Грецию было отправлено в общей сложности около 10.000 греческо-подданных. За каждым из них своя трагическая история разрыва семейных, дружеских и прочих человеческих связей.
Несмотря на горечь расставания, никто из нас в тот момент не мог предположить, что мы никогда больше не увидимся.
Вскоре после приезда Виргинии в Салоники началась Вторая мировая война и она попала, как говорится, «из огня да в полымя». Надежда бабушки на освобождение ее сына и воссоединение семьи рухнули. Жизнь ее превратилась в кромешный ад, который не сравнить даже с нашими муками. Мы хотя бы были вместе, и хоть какие-то весточки доходили об отце, а она лишилась самого главного – надежды. Лично я понял всю глубину трагедии моей бабушки, когда сам обзавелся внуками и попробовал себе представить ее душевное состояние.
С 1940 г. Греция была активно вовлечена в военные действия и поначалу удачно отражала атаки итальянской армии, но уже весной следующего 1941 г. была оккупирована немцами. Салоники не раз подвергались бомбардировкам, оккупация привела к страшным последствиям – люди гибли от бомбежек, от голода, от репрессий (было уничтожено почти все еврейское население города). Так продолжалось до освобождения Греции осенью 1944 г. Да и потом было не лучше: страна в состоянии гражданской войны, экономический коллапс…
Бабушка стойко сносила все тяготы военной оккупации и после оккупационного времени, но была совершенно беззащитна перед страхом за нас, перед неизвестностью, что с нами и с отцом. С началом оккупации переписка практически прекратилась.
Позже она писала: «Шесть лет войны истощили мое терпение и мужество, сама удивляюсь, как вынесла все это. Но иногда такая тоска меня охватывает, что, как увижу детей, похожих на вас, то останавливаю и разговариваю с ними, а они смущаются и смотрят на меня. Если бы хоть кто-нибудь из вас был рядом, я бы знала, для чего живу и работаю».
В Афинах, Салониках, Кавале, Флорине, Драме жили ее сестры и брат с семьями и родственники по линии Дионисиади. Они не забывали о ней, всячески старались ее поддержать, так что нельзя сказать, что она была одинока. Но как она сама признавалась: «Нигде не могу я обрести покой. Только оставаясь одна в своей комнате и смотря на ваши фотографии, я нахожу утешение». Когда совсем становилось тоскливо, она с головой уходила в работу – шила и перешивала старые вещи на той самой швейной машине Зингер, которую вывезла из Тбилиси. Работа, кроме того, давала ей возможность не зависеть финансово от родственников, снимать комнату в центре города и после войны иногда пересылать нам посылки с одеждой. Когда она не работала, то часто гуляла по набережной. Для нее это было особое место, она даже нам открытку прислала с видом на Леофорос Никис и приписала, что это ее любимое место прогулок. Конечно, ведь ее родной Трапезунд и вторая родина – Батуми тоже были расположены на берегу моря… И может быть, когда она гуляла по набережной, у нее возникала иллюзия, что Море (хотя и совсем другое) скорее не разъединяет, а связывает ее с той прежней жизнью, с нами…
Первую весточку от бабушки мы получили в феврале 1944 г. Судя по письмам, почти до конца 1945 г. она наших ответных писем не получала. Всего осталось 10 ее писем и несколько открыток, почти все за период – начало 1946 г. – весна 1948 г. Письма и открытки написаны на греческом языке, ровным красивым, я бы сказал, каллиграфическим почерком. Но за этими ровными строчками в каждом письме сумбур чувств, боль и тоска разлуки и робкая вера в возможность воссоединения семьи на греческой земле. Многие строчки размыты и их трудно разобрать. Так что письма в самом что ни на есть прямом смысле омыты слезами.
После войны, когда связь с нами более или менее наладилась, и особенно после освобождения отца, она опять начала жить надеждой на встречу с нами. «Надеюсь, что, если Судьба и Война нас разлучила когда-то, сейчас Судьба и Мир снова нас сведут». В апреле 1948 г., после того, как Виргиния получила долгожданную новость о возвращении своего сына и вслед за ней его собственноручно написанное письмо, она написала, что родственники начали хлопотать о получении разрешения на приезд нашей семьи в Грецию. Но предчувствие, что встреча, если и состоится, то очень нескоро, не покидало ее.
В марте 1947 г. она пишет: «Девять лет подряд вдали от родных сердце мое было тверже железа и стали, но в этом году я стала бояться, что мне еще лет девять придется ждать, а ведь мои годы уходят безвозвратно».
Бабушка оказалась провидицей: мой отец первый раз приехал в Грецию в конце 1955 г., т. е. почти через девять лет после написания этого письма и через год с небольшим после смерти бабушки…
Встретившись со своими греческими родственниками, отец, наконец, узнал, как жила мать все эти годы. В середине 1949 г. узнав о новом аресте своего сына и бессрочной ссылке в Сибирь, она погрузилась в депрессию, из которой уже не выбралась… Последние годы бабушка почти ничего не ела, много курила и пила крепкий кофе. Стала понемножку выпивать. Всю жизнь она хранила под подушкой увезенное наше нательное белье, доставала его, гладила, нюхала и даже разговаривала с ним. Постепенно она стала терять разум. Слава Богу, родственники не оставили ее, последнее время она жила у своего брата. Бабушка умерла 27 сентября 1954 г., ей было не так уж много лет – 71.
По греческому закону бабушку захоронили во временную могилу, через 3 года надо было выкупить участок или же в противном случае останки должны были перезахоронить в общую могилу. К счастью, отец к этому времени смог сам отдать последний долг своей матери. В 1957 г. он специально приехал в Грецию, чтобы перезахоронить останки на купленном участке кладбища в пригороде Салоников, в районе Каламарья. К сожалению, он не только не оставил документов на участок, но и толком не объяснил, где находится могила. Он не придавал этому значения: ведь вскоре он собирался повезти нас в Грецию и хотел сам показать нам могилу бабушки… Но не довелось…
С конца 80-х годов, когда, наконец, мне разрешили выехать за границу, меня неотступно преследовала мысль, что я должен приехать в Салоники и разыскать могилу бабушки. К этому времени из трех внуков бабушки в живых остался только я: младший – Дима погиб в 1957 г., а старший – Лазик умер в 1977 г. Так что для меня найти могилу бабушки и почтить ее память было не только долгом перед Виргинией, но и долгом перед рано ушедшими братьями…
Такая возможность появилась только в 1995 г., когда я перебрался в Грецию на ПМЖ (постоянное место жительства). Приехав в Салоники, я отправился на кладбище в Каламарью и с большим трудом, но все же нашел могилу. И тут сердце мое сжалось от вида запустения: покрывающая могилу плита из белого мрамора провалилась в осевший грунт и образовала воронку, которая была заполнена каким-то мусором. Но в тот приезд в Салоники мне ничего не удалось сделать: не было ни времени, ни денег, ни знания языка. Я вернулся в Афины, где в то время жил, но жуткая картина неухоженной могилы все время стояла перед глазами. Только через полгода я смог опять приехать в Салоники и на этот раз привести могилу в порядок. Огромный камень свалился с моих плеч…
Кроме писем от бабушки остались только маленькая иконка-складень и полуистлевшая тетрадь стихов, которую я в 1999 г. передал в дар музею Центра по изучению культуры греков Причерноморья в Салониках, располагавшемуся совсем недалеко от кладбища, где она нашла последнее успокоение.
А еще осталась наша светлая память о ней…
Оригинал взят у Александра Дионисиади
Публикуется с сокращениями. Полный текст находится в свободном доступе по ссылке на GooglePlay
https://play.google.com/store/books/details?id=06qGDQAAQBAJ
Александр Дионисиади. “История моей семьи”. Главы 6-10
Дорогие друзья,
Приглашаем вас поддержать деятельность Московского общества греков.
Посильный вклад каждого станет весомой помощью для нашего Общества!
Только всем вместе нам удастся сделать жизнь греческой диаспоры столицы той, о которой мы все мечтаем!