«…прекрасные минуты Надежды и Свободы»
Этими словами Пушкина в первые дни греческой революции 1821 года можно было бы охарактеризовать и ту захваченность идеи свободы, которой жила в начале двадцатых годов, до декабрьского восстания 1825 года, русская поэзия. Многие из её символов были почерпнуты в культурном арсенале древней Греции и обретали теперь плоть и кровь живой реальности: античность смыкалась с современностью, легенда с былью.
Ближе всех к эпицентру событий оказался сосланный в Бессарабию Пушкин. Прибыв в Кишинев как раз в канун революции, он успел познакомиться с возглавившим восстание князем А. Ипсиланти и жадно следил за ходом военных действий. Его письма, дневник, стихотворения передают сочувствие и соучастие, яркий взлёт романтического энтузиазма. Черновик письма, отправленного в марте 1821 года (предположительно В.Л. Давыдову), запечатлевает хронику первых шагов греческой революции:
Уведомляю тебя о происшествиях, которые будут иметь следствия, не только для нашего крах, но и всей Европы. восстала и провозгласила свою свободу, Восторг умов дошел до высочайшей степени, все мысли устремлены к одному предмету – к независимости древнего зодчества. В Одессах и уже не застал любопытного зрелища в лавках, на улицах. в трактирах, везде Собирались полны грибов, продавали за ничто имущество, покупали сабли, оружия, пистолеты, говорили об Леониде, об Фемистокле, все шли в войско счастливца Ипсиланти…
Первый шаг Александра Ипсиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо начал, и, мёртвый или победитель, отныне принадлежит истории – 28 лет, оторвана рука, цель великодушная! – завидная участь.
Вскоре, 2 апреля 1821 года, дневниковая запись зафиксирует еще один исполненный оптимизма отзыв:
Вечер у N.G. – прелестная гречанка. Говорили об А. Ипсиланти, между пятью греками я один говорил как грек, все отчаиваться в успехе предприятия этерии. И твёрдо уверен, что Греция восторжествует, а 25 000 000 турков оставят цветущую страну Эллады законным наследникам Гомера и Фемистокла.
Запись от 9 апреля:
Вчера князь Дмитрий Ипсиланти сказал мне, что греки перешли через Дунай и разбили корпус неприятельский.
Запись от 9 мая:
Третьего дня писал я к князю Ипсиланти, с молодым французом, который отправляется в греческое войско.
Судя по намёку в письме к Дельвигу от 23-3-1821 («Недавно приехал в Кишинёв и скоро оставлю благословенную Бессарабию — есть страны благословеннее. Праздный мир не самое лучшее состояние жизни…»), можно предположить, что Пушкин намеревался присоединиться к повстанцам. На языке поэзии он выскажется на этот счёт с большей определённостью: стихотворение «Война», первый поэтический отклик на греческое восстание, исполнено предчувствием сильных впечатлений для жаждущей души, ожиданием первой битвы.
Какую позицию займёт Россия, выступит ли она союзницей восставших греков? Этим «важным», по его словам, вопросом завершал своё послание Давыдову Пушкин. В Петербурге К. Рылеев, откликаясь на неоправдавшиеся слухи о скором выступлении на помощь грекам армии под командованием генерала А. Ермолова, обращается к нему с призывом поспешить спасать сынов Эллады:
Уже в отечестве потомков Фемистокла
Повсюду подняты свободы знамена,
Геройской кровью уж земля намокла…
(«А.П. Ермолову», 1821)
Из тираспольской «темницы» В. Раевский, арестованный за «возмутительную» пропаганду в армии, прочил Пушкину лавры Байрона, побуждал: Оставь другим певцам любовь! // Любовь ли петь, где брызжет кровь… и взывал «к друзьям в Кишинёв»:
Спешите! Там волкальный звон
Поколебал подземны своды
И пробудил народный сон
И гидру дремлющей свободы!
(«К друзьям в Кишинёв», 1822)
Находящийся тогда в Париже В. Кюхельбекер в унисон с Пушкиным мечтал разделить с повстанцами «весёлый час Свободы»:
Друзья! Нас ждут сыны Эллады!
Кто даст нам крылья? полетим!
Сокройтесь, горы, реки, грады, —
Они нас ждут — скорее к ним!
Услышь, судьба, мои молитвы —
Пошли и мне, пошли минуту первой битвы!
(«Греческая песнь», 1821)
Зная о настроениях Кюхельбекера, Александр 1 «полагал его в Греции». Однако предположения царя не оправдались, страстное желание поэта не осуществилось. Лекции, прочитанные Кюхельбекером в Париже, вызвали негодование российских властей, и ему было предписано незамедлительно вернуться на родину.
* * *
Под давлением Священного Союза Александр 1 не решился поддержать восставшую Грецию, и греческая тема попала под настороженный контроль властей и цензуры, опасавшихся вредного влияния на настроения российского общества. Характерно, что, докладывая царю о резонансе, который вызвало в России греческое восстание, министр внутренних дел Кочубей упомянул и публикацию в московском Вестнике Европы «Военного гимна греков» сразу в двух анонимных переводах, первый из которых принадлежал Н. Гнедичу, а второй, вероятно, С. Дестунису. (Третий перевод П. Шкляревского был опубликован после смерти поэта в 1831 году.) Вслед за Байроном это стихотворение, эллинизированный вариант «Марсельезы», ошибочно приписывалось тогда Ригасу Велестинлису, первопроходцу греческого революционного движения, казнённому турецкими властями в 1798 году. Интересно, что, представляя эту публикацию, редакция Вестника Европы предохранительно подчёркивала, что оба перевода «с греческого языка, и предлагаются единственно как произведение соплеменника народа, которого именем, страданиями и усилиями наполнены теперь все политические журналы и газеты».
Опасения властей и цензуры не были напрасными: тема греческой революции действительно благоприятствовала распространению вольнолюбивых идей. Незамедлительно откликаясь на «глас» Эллады, бросившей «оковы во прах», «зовущей на битву, на подвиги», Кюхельбекер клялся в непримиримости к «убийственному сну», к «бесчестной, глухой, гробовой тишине» и грезил о «сечах» за свободу:
Мы презрим и негу, и роскошь, и лень.
Настанет для нас тот торжественный день,
Когда за отчизну наш меч
Впервые возблещет средь радостных сеч!
(«К Ахатесу», 1821)
На примере Кюхельбекера мы с особой отчётливостью наблюдаем, как романтическое представление о мессианской роли поэзии в декабристских кругах приобретало программный характер, предопределяя просветительские устремления, аллегоризацию исторических сюжетов, предпочтение высоких жанров (оды и трагедии)… Внося в греческую тему тираноборческий пафос, он пишет о «народных перунах», которых на «тиранов шлёт» не тонущее «в реке катящихся веков» героическое свободолюбие («Греческая песнь»), причём, как и греческие поэты—современники Д. Соломос и А. Кальвос, тиранов он видит не только в толпе свирепых оттоманов, но и в их западных покровителях,
Гнетущих вековым жезлом
Немые Запада народы,
Казнящих ссылкой и свинцом
Сынов возвышенной свободы.
(«К Вяземскому», 1823)
Тираноборческой страстностью дышит и «Кинжал» (1821) Пушкина. Тираноборцу Аристогитону уподобляет поэт павшего греческого повстанца в одном из самых известных стихотворений греческого цикла «Гречанка верная! не плачь, — он пал героем…» (1821:
Как Аристогитон, он миртом меч обвил,
Он в сечу ринулся и, падши, совершил
Великое, святое дело.
Привлечение античной символики, возвышенный слог, торжественная интонация поднимали тему греческой революции на пьедестал панхронической парадигмы. Чрезвычайно распространена сюжетная схема: древнее величие, многовековое иноземное иго, возрождение. Ей в частности следует пламенная «Военная песнь греков» Ф. Глинки (с вероятными отголосками «Военного гимна” Ригаса), а также известные одноименные стихотворения «Греция» О. Сомова и В. Туманского (у Туманского это диптих сонетов). Однако и там, где схема не развёрнута, идея воскрешения древних свободолюбивых традиций после тягостных веков национального порабощения присутствует неизменно. Это стержень греческой темы, исток её притягательности и дидактичности, пророческого звучания, вдохновляющего «гонимые народы».
На протяжении почти пяти лет, в атмосфере интенсивного духовного брожения, захватившего широкие круги российской интеллигенции (причастных и непричастных к назревающему восстанию), борющаяся Греция продолжала волновать русских поэтов.
Реалии греческой революции сливались со словами-символами: рабство, тирания, оковы, позор — свобода, вольность, честь, кинжал, меч. Образы борцов рисовались в ореоле универсальной романтической героики. Такой мы видим героиню стихотворения В. Григорьева «Гречанка» (Зачем в руке твоей кинжал // Дочь вдохновенного Востока?...) — выбор на главную роль юной гречанки, сочетающей, согласно формуле романтического контраста, хрупкую женственность и мужество воина, акцентировал идеальную высоту патриотической самоотверженности.
Особое место в сонме романтических героев занимает Байрон. Смерть поэта (1824) в осаждённом Месолонги потрясла многих русских поэтов и вызвала новую волну горячего сочувствия Греции:
Он первый на звуки свободных мечей
С казною, и ратью, и арфой своей
Летит довершать избавленье;
Он там, он поддержит в борьбе роковой
Великое дело великой душой —
Святое Эллады спасенье.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
О край песнопенья и доблестных дел,
Мужей несравненных заветный предел —
Эллада! Он в час твой кровавый
Сливает свой жребий с твоею судьбой,
Сияющий гений горит над тобой
Звездой возрожденья и славы.
(И. Козлов. «Бейрон», 1824)
В стихотворениях В. Кюхельбекера, К. Рылеева. И. Козлова, Д. Веневитинова возвышенный образ поэта (Бард, живописец смелых душ… // Тиртей, союзник и покров // Свободой дышущих полков! — восклицает Кюхельбекер) предстаёт в неразрывной связи с Элладой обновлённой, которая скорбит о его безвременной кончине и дает обет сражаться с пламенной душой… (Д. Веневетинов. «Смерть Байрона»).
Поражение декабристов оборвёт взлёт надежд и энтузиазма, которым жило русское общество, и последующие годы общественного спада отнюдь не будут стимулировать гражданскую тематику. Вместе с ней угаснет и греческая тема, Её редкие всплески воскрешают воспоминания 0 «годах юности опасной», о душевной «окрылённости», о «святой искре» «неугасимого огня». Так в стихотворении П. Катенина «Гений и Поэт», запрещённом цензурой в 1830 году и опубликованном девять лет спустя, Греция, любимая «с лет младенческих земля», понесшая «всю тягость Уз», оживает подобно юному Фениксу, поразив «восторженный мир» и«воодушевив музу» «вдохновенных певцов».
* * *
Романтическая модель, к которой обращались «вдохновенные певцы» греческой революции, не предполагала критического осмысления её трудной эволюции. Пожалуй, один лишь Пушкин, и то не в поэзии, а в письмах и прозе, затрагивает такие болевые точки греческой темы, как политическая незрелость лидеров и масс, внутренние раздоры, наносившие ущерб делу освободительной борьбы (с тревогой и болью пишут об этом и греческие поэты Соломос и Кальвос).
Первую лёгкую тень можно, пожалуй, уловить даже в том самом процитированном выше письме Пушкина к Давыдову, где речь идёт о военном выступлении Ипсиланти. Два года спустя, в письмах 1823-1824. годов, горячность пламенного энтузиазма уступит место горечи разочарования. Сопоставление современной Греции с античной, упоминания о Перикле, Фемистокле, Мильтиаде прозвучат теперь как опровержения романтических иллюзий. Вместе с тем поэт упорно подчёркивает, сколь близки ему «благородные усилия возрождающегося народа»: «..дело Греции вызывает во мне горячее сочувствие…»
Чрезвычайно характерны перемены в восприятии Пушкиным лидера греческого восстания князя Ипсиланти. Его имя. упоминается им неоднократно и в письмах и в стихах как своего рода историческая мета эпохи, символ благородного порыва личности и народа, Среди рисунков Пушкина (на рукописи «Братьев-разбойников») сохранился его портрет. Однако в повести «Кирджали» (1834), по-прежнему признавая личную храбрость Ипсиланти, Пушкин сурово оценивает его политическую роль:
Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми. которыми принуждён был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться и сам заступил его место. Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал своё проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодяями. Эти трусы и негодяи большею частию погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля вдесятеро сильнейшего.
Годы южной ссылки Пушкина (в Кишинёве и Одессе) были насыщены взволнованным сопереживанием и интенсивным осмыслением революционных событий на юге Европы — в Испании, Италии и Греции. Их уроки, в первую очередь греческой революции, более близкие и наглядные, безусловно содействовали стремительному возмужанию и реалистическому заземлению исторической мысли поэта. Однако «отрезвление» от исходной романтической идеализации не умаляло в нём захваченности происходящим, сознания его исторической значимости и духа героической жертвенности. В конце 1824. года, уже из Михайловского, он хлопочет через Жуковского о восьмилетней сироте, дочери погибшего греческого повстанца. В 1825 году заканчивает письмо к Гнедичу упоминанием о годовщине «объявления греческого бунта Александром Ипсиланти». В 1829 году воодушевлённо приветствует признание независимости Греции двумя стихотворениями «Опять увенчаны мы славой…» и «Восстань, о Греция, восстань…», напоминающими восторженную тональность самых первых откликов:
Восстань, о Греция, восстань,
Недаром напрягала силы,
Недаром потрясала брань
Олимп и Пинд и Фермопилы.
~~~~~~~~~~~~~~
Страна героев и богов
Расторгла рабские вериги
При пенье пламенных стихов
Тиртея, Байрона и Риги.
* * *
В посвящённой Пушкину лекции, прочитанной в 1879 году в афинском литературном обществе «Парнас», К.П. Палеолог выделил два достоинства его творчества и личности, особо ценные для греков — свободолюбие и филэллинизм. По’ поводу последнего он заметил, что в России времён Пушкина это явление было крайне редким: филэллинов, по его мнению, можно было сосчитать по пальцам. Палеолог родился и жил на юге России, главным образом в Одессе, был постоянным сотрудником видных греческих журналов и газет, пристально следил за русской периодикой и старательно информировал греческих читателей о культурных событиях русско-греческого интереса. Учитывая степень его пристрастной осведомлённости, следует предположить, что вдохновленная греческой революцией 1821 года филлэллинская страница русской поэзии явно не была в России достоянием широкой читательской публики и оказалась для Палеолога недоступной.
Действительно, значительная часть греческого цикла русской поэзии начала двадцатых годов ХХ века ходила в списках и увидела свет много лет, а то и десятилетий, спустя. Пожалуй, наиболее разительный пример — стихотворения В. Капниста «К восставшему греческому народу» и «Воззвание на помощь Греции», ожидавшие публикации более века. Неслучайно поэтому, что столь сильная струя поэзии русского филэллинизма не получила до сих пор в России достаточно полного освещения. По всей вероятности, этот цикл — тридцать стихотворений двенадцати поэтов — никогда ещё не сводился воедино.
Подлинным открытием он будет для греческого читателя: до сравнительно недавнего времени? этот феномен русской культуры, столь непосредственно связанный с греческой историей, был ему почти (за исключением Пушкина) неизвестен. Выставка «Под небом Греции священной…», с успехом прошедшая в 1999 году в Москве, а также издание, на русском и на греческом, настоящего сборника — запоздалый акт справедливости, вызывающий удовлетворение и вселяющий надежды на то, что открываемая ныне глава вызовет интерес как русских, так и греческих исследователей и будет иметь продолжение.
С. ИЛЬИНСКАЯ

К.П.Брюллов “Храм Юпитера Немейского
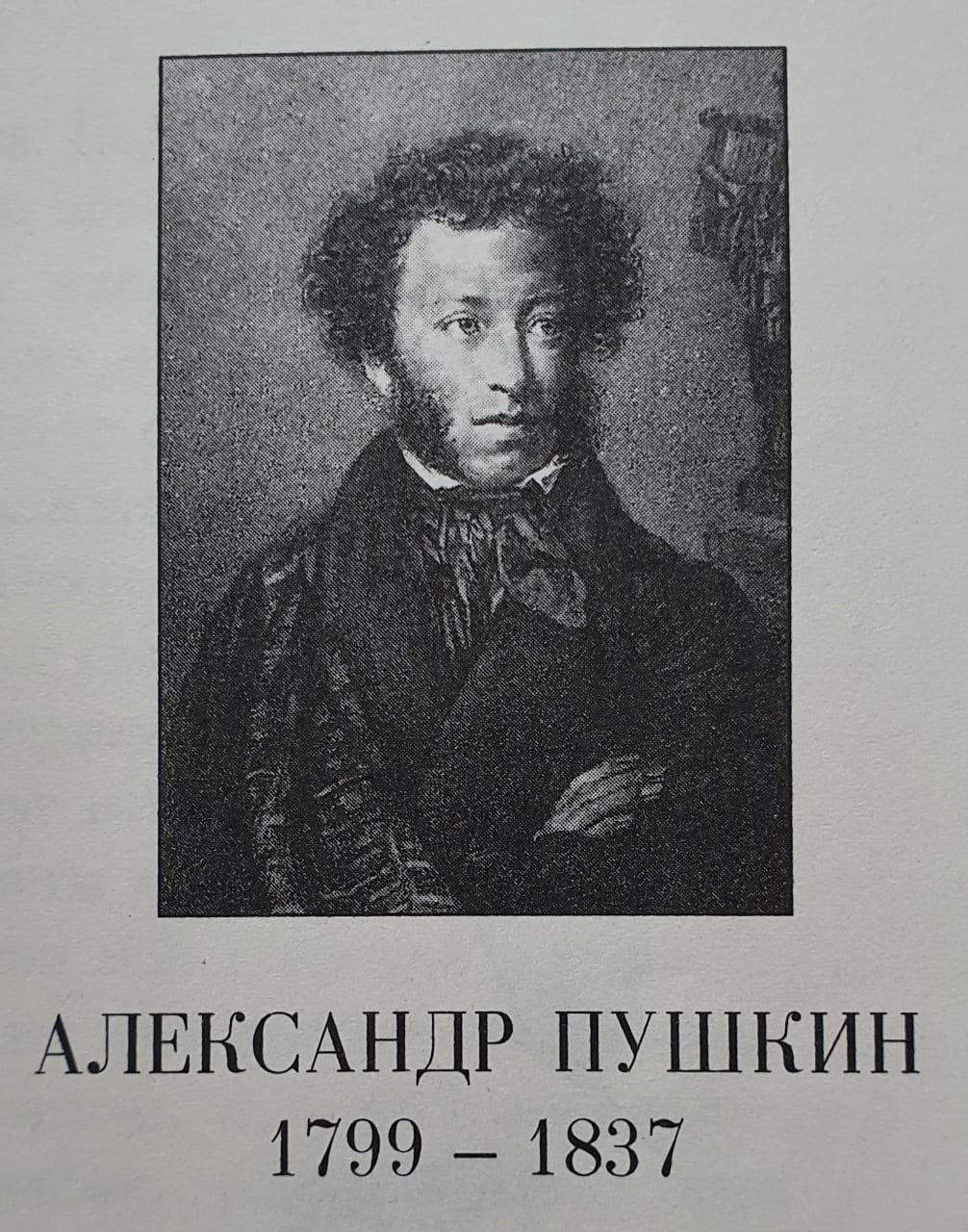
ВОЙНА
Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей!
Стремленье бурных ополчений,
Тревоги стана, звук мечей,
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!
Предметы гордых песнопений
Разбудят мой уснувший гений! —
Все ново будет мне: простая сень шатра,
Огни врагов, их чуждое взыванье,
Вечерний барабан, гром пушки, визг ядра
И смерти грозной ожиданье.
Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть,
Ты, жажда гибели, свирепый жар героев?
Венок ли мне двойной достанется на часть,
Кончину ль темную судил мне жребий боев?
И все умрет со мной: надежды юных дней,
Священный сердца жар, к высокому стремленье,
Воспоминание и брата и друзей,
И мыслей творческих напрасное волненье,
И ты, и ты, любовь!.. Ужель ни бранный шум,
Ни ратные труды, ни ропот гордой славы,
Ничто не заглушит моих привычных дум?
Я таю, жертва злой отравы:
Покой бежит меня, нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела…
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?
* * *
КИНЖАЛ
Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.
Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд.
Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет,
Среди своих пиров.
Везде его найдет удар нежданный твой:
На суше, на морях, во храме, под шатрами,
За потаенными замками,
На ложе сна, в семье родной.
Шумит под Кесарем заветный Рубикон,
Державный Рим упал, главой поник закон;
Но Брут восстал вольнолюбивый:
Ты Кесаря сразил — и, мертв, объемлет он
Помпея мрамор горделивый.
Исчадье мятежей подъемлет злобный крик:
Презренный, мрачный и кровавый,
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник.
Апостол гибели, усталому Аиду
Перстом он жертвы назначал,
Но вышний суд ему послал
Тебя и деву Эвмениду.
О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.
В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.
<1821>
* * *
Гречанка верная! не плачь, — он пал героем,
Свинец врага в его вонзился грудь.
Не плачь — не ты ль ему сама пред первым боем
Назначила кровавый Чести путь?
Тогда, тяжелую предчувствуя [разлуку],
Супруг тебе простер торжественную руку,
Младенца своего в слезах благословил,
Но знамя черное Свободой восшумело.
Как Аристогитон, он миртом меч обвил,
Он в сечу ринулся — и падши совершил
Великое, святое дело.

Эллеферия, пред тобой
Затмились прелести другие,
Горю тобой, я вечно твой.
Я твой на век, Эллеферия!
Тебя пугает света шум,
Придворный блеск ей неприятен;
Люблю твой пылкий, правый ум,
И сердцу голос твой понятен.
На юге, в мирной темноте
Живи со мной, Эллеферия,
Твоей … красоте
Вредна холодная Россия.

ГРЕЧАНКЕ.
Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять
Любезной живостью приветов,
Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей
И этой ножкою нескромной…
Ты рождена для неги томной,
Для упоения страстей.
Скажи — когда певец Леилы
В мечтах небесных рисовал
Свой неизменный идеал,
Уж не тебя ль изображал
Поэт мучительный и милый?
Быть может, в дальной стороне,
Под небом Греции священной,
Тебя страдалец вдохновенный
Узнал, иль видел, как во сне,
И скрылся образ незабвенный
В его сердечной глубине?
Быть может, лирою счастливой
Тебя волшебник искушал;
Невольный трепет возникал
В твоей груди самолюбивой,
И ты, склонясь к его плечу…
Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой
Питать я пламя не хочу;
Мне долго счастье чуждо было,
Мне ново наслаждаться им,
И, тайной грустию томим,
Боюсь: неверно всё, что мило.
*Стихотворение посвящено Калипсо Полихрони, беженке из Константинополя. По преданию, ею восхищался лорд Байрон.

Опять кичливый враг сражён,
Решён в Арзруме спор кровавый,
В Эдырне мир провозглашён.И дале двинулась Россия,
И юг державно облегла,
И пол-Эвксина вовлекла
В свои объятия тугие.
*Написано по поводу мира в Адрианополе, заключённого 2 сентября 1829 г. и завершившего войну с Турцией 1828—1829 гг. Эдырне (Эдирне) — турецкое название Адрианополя.

Недаром напрягала силы,
Недаром потрясала брань
Олимп и Пинд и Фермопилы.Под сенью ветхой их вершин
Свобода юная возникла,
На гробах Перикла,
На мраморных Афин.Страна героев и богов
Расторгла рабские вериги
При пеньи пламенных стихов
Тиртея, Байрона и Риги.
*Написано по поводу мира в Адрианополе.


Века шагают к славной цели;
Я вижу их: они идут!
Уставы власти устарели;
Проснулись, смотрят и встают
Доселе спавшие народы.
О радость! грянул час, веселый час Свободы!
Друзья! нас ждут сыны Эллады!
Кто даст нам крылья? полетим!
Сокройтесь горы, реки, грады!
Они нас ждут: скорее к ним!
Судьба, услышь мои молитвы,
Пошли, пошли и мне минуту первой битвы!
И пусть я, первою стрелою
Сражен, всю кровь свою пролью:
Счастлив, кто с жизнью молодою
Простился в пламенном бою,
Кто убежал от уз и скуки
И славу мог купить за миг короткий муки!
Ничто, ничто не утопает
В реке катящихся веков:
Душа героев вылетает
Из позабытых их гробов
И наполняет бардов струны
И на тиранов шлет народные перуны!
(1821)
К Ахатесу
Ахатес, Ахатес! Ты слышишь ли глас,
Зовущий на битву, на подвиги нас?
Мой пламенный юноша, вспрянь!
О друг, – полетим на священную брань!
Кипит в наших жилах веселая кровь,
К бессмертью, к свободе пылает любовь,
Мы смелы, мы молоды: нам
Лететь к Марафонским, святым знаменам!
Нет! нет! – не останусь в убийственном сне,
В бесчестной, глухой, гробовой тишине;
Так! ждет меня сладостный бой –
И если паду, я паду как герой.
И в вольность, и в славу, как я, ты влюблен,
Навеки со мною душой сопряжен!
Мы вместе помчимся туда,
Туда, где восходит свободы звезда!
Огонь запылал в возвышенных сердцах:
Эллада бросает оковы во прах!
Ахатес! нас предки зовут –
О, скоро ль начнем мы божественный труд!
Мы презрим и негу, и роскошь, и лень.
Настанет для нас тот торжественный день,
Когда за отчизну наш меч
Впервые возблещет средь радостных сеч!
Тогда, как раздастся громов перекат,
Свинец зашипит, загорится булат, –
В тот сумрачный, пламенный пир,
“Что любим свободу”, поверит нам мир!
(1821)
*Ахатес – герой “Энеиды” Вергилия. Лететь к Марафонским, святым знаменам. – Имеется в виду современная Греция, восставшая против угнетателей; при Марафоне в 490 г. до н. э. греки победили персов.
ПРОРОЧЕСТВО
Глагол господень был ко мне
За цепью гор на бреге Кира:
“Ты дни влачишь в мертвящем сне;
В объятьях леностного мира:
На то ль тебе я пламень дал
И силу воздвигать народы? –
Восстань, певец, пророк Свободы!
Вспрянь, возвести, что я вещал!
Никто – но я воззвал Элладу;
Железный разломил ярем:
Душа ее не дастся аду;
Она очистится мечем,
И, искушенная в горниле,
Она воскреснет предо мной:
Ее подымет смертный бой;
Она возблещет в новой силе!”
Беснуясь, варвары текут;
Огня и крови льются реки;
На страшный и священный труд
Помчались радостные греки;
Младенец обнажает меч,
С мужами жены ополчились,
И мужи в львов преобразились
Среди пожаров, казней, сеч!
Костьми усеялося море,
Судов могущий сонм исчез:
Главу вздымая до небес.
Грядет на Византию горе!
Приспели грозные часы:
Подернет грады запустенье;
Не примет трупов погребенье,
И брань за них подымут псы!
Напрасны будут все крамолы;
Святая сила победит!
Бог зыблет и громит престолы;
Он правых, он свободных щит! –
Меня не он ли наполняет
И проясняет тусклый взор?
Се предо мной мгновенно тает
Утесов ряд твердынь и гор!
Блестит кровавая денница;
В полях волнуется туман:
Лежит в осаде Триполицца
И бодр, не дремлет верный стан!
Священный пастырь к богу брани
Воздел трепещущие длани;
В живых молитвах и слезах
Кругом вся рать простерлась в прах.
С высот неверный им смеется,
Злодей подъемлет их на смех:
Но Кара в облаках несется;
Отяжелел Османов грех!
Воспрянул старец вдохновенный,
Булат в деснице, в шуйце крест:
Он вмиг взлетел на вражьи стены;
Огонь и дым и гром окрест!
Кровь отомстилась убиенных
Детей и дев, сирот и вдов!
Нет в страшном граде пощаженных:
Всех, всех глотает смертный ров! –
И се вам знаменье Спасенья,
Народы! – близок, близок час:
Сам Саваоф стоит за вас!
Восходит солнце обновленья!
Но ты, коварный Альбион,
Бессмертным избранный когда-то,
Своим ты богом назвал злато:
Всесильный сокрушит твой трон!
За злобных тайный ты воитель!
Но будет послан ангел-мститель;
Судьбы ты страшной не минешь:
Ты день рожденья проклянешь!
Тебя замучают владыки;
И чад твоих наляжет страх;
Во все рассыплешься языки,
Как вихрем восхищенный прах.
Народов чуждых песнью будешь
И притчею твоих врагов,
И имя славное забудешь
Среди бичей, среди оков!
А я – и в ссылке, и в темнице
Глагол господень возвещу:
О боже, я в твоей деснице!
Я слов твоих не умолчу! –
Как буря по полю несется,
Так в мире мой раздастся глас
И в слухе Сильных отзовется:
Тобой сочтен мой каждый влас!
(1822)
К ВЯЗЕМСКОМУ
Когда, воспрянув ото сна,
Воздвиглась, обновясь, Эллада
И вспыхла чудная война,
Рабов последняя ограда;
Когда их цепи пали в прах
И обуял крылатый страх
Толпу свирепых отоманов,
Толпу союзных им тиранов,
Гнетущих вековым жезлом
Немые Запада народы,
Казнящих ссылкой и свинцом
Возвышенных сынов Свободы,-
С Секванских слышал я брегов
Ваш клич, воскресшие герои,
Ваш радостный я слышал зов,
О вы, торжественные бои!
Хватая в нетерпеньи меч,
Я думал: там средь дивных сеч
Найду бессмертную кончину!
Но мне унылую судьбину
Послал неумолимый рок:
Мой темный жизненный поток
Безвестный потечет в истленье;
Увы, меня пожрет Забвенье!
А разве сохранит певца
Отважный голос упованья,
Мой стих, гремевший из изгнанья,
Разивший гордые сердца!
Развейся же, святое знамя,
Играй в воздушных высотах!
Не тщетное дано мне пламя;
Я волен даже и в цепях!
Чистейший жар в груди лелея,
Я ударяю по струнам;
Меня надзвездный манит храм –
Воссяду ли, счастливец, там
Близ Пушкина и близ Тиртея?
(1823)
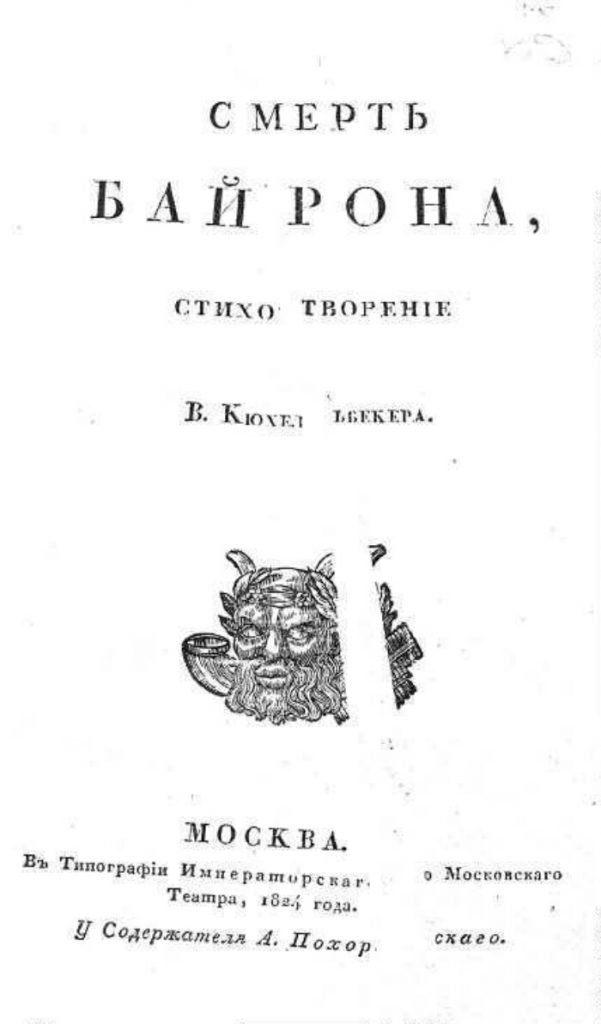
За небосклонъ скатило шаръ
Златое дневное свѣтило,
И твердь, и небо воспалило;
По рощамъ разлился пожаръ;
Зажженное зыбей зерцало,
Алмазъ огромный, трепетало.
Вспылалъ далекій Минаретъ;
Иманъ, надъ прахомъ возвышенной
Трикратъ провозгласилъ вселенной:
«Богъ только Богъ—иного нѣтъ»…
Услышали; въ мгновенье ока
Всѣ пали ницъ сыны Пророка.
Но душенъ воздухъ; стадо тучъ
Паритъ надъ знойною землею;
Погасъ прощальный солнца лучъ;
Застывшій холмъ одѣлся мглою;
Простерлась всюду тишина;
Взошла багровая луна,
Взошла и посребрила скалы;
Звѣзда открылась за звѣздой;
Cѣть собралъ рыболовъ усталый,
Оратай поспѣшилъ домой;
Съ высотъ эѳирныхъ въ долъ и рощи
Толпой слетаютъ духи нощи!
И кто же въ сей священный часъ
Одинъ не мыслитъ о покоѣ?
Одинъ въ безмолвіе ночное,
Въ прозрачный сумракъ погружась,
Надъ моремъ и подъ звѣзднымъ хоромъ
Блуждаетъ вдохновеннымъ взоромъ?
Пѣвецъ, любимецъ россіянъ,
Въ странѣ Назонова изгнанья,
Нѣмымъ восторгомъ обуянъ,
Съ очами, полными мечтанья,
Сидитъ на крутизнѣ одинъ;
У насъ его шумитъ Эвксинъ —
Шумитъ и бѣлыми рядами
За валомъ приближаетъ валъ;
Всталъ хладный вѣтеръ между скалъ.
Пронесся стонъ ихъ надъ водами;
Скользя поверхъ свинцовыхъ волнъ,
Качаясь, рѣетъ утлый чолнъ.
Змѣятся быстрыя зарницы;
Бѣгутъ и вдругь завѣсу тьмы
Срываютъ съ мраморной чалмы,
Съ объятой розами гробницы;
И соловей, любовникъ розъ,
Вспорхнулъ, слетѣлъ съ надгробныхъ лозъ.
На краѣ неба городъ дальній
Чернѣетъ въ тусклой бѣлизнѣ;
Не звонъ ли звукнулъ погребальный,
Нежданный въ общей тишинѣ?
Земля содроглась; въ блескахъ молній,
Дрожа, шатнулись колокольни!
Громъ грянулъ; пышутъ небеса;
Въ селеньѣ стая псовъ завыла;
Расширивъ блещущія крыла,
Взревѣла дикая гроза;
Волкъ гладный бросилъ логовище,
Сошлись чакалы на кладбище!
Тогда — (но страхъ объялъ меня!
Блѣднѣю, трепещу, рыдаю;
Подавленъ скорбію, стеня,
Испуганъ, лиру покидаю!) —
Я вижу — сладостный пѣвецъ
Во прахъ повергнулъ свой вѣнецъ.
Онъ зритъ: отъ дальнихъ странъ полдневныхъ,
Гдѣ возвышался фебовъ храмъ,
Весь въ пламени, средь вихрей гнѣвныхъ,
По мрачнымъ, тяжкимъ облакамъ
Шагаетъ призракъ исполина;
Подъ нимъ сверкаетъ водъ равнина.
Онъ слышитъ: съ горней высоты
Глаголъ раздался чародѣя!
Волшебный зовъ, надъ міромъ вѣя,
Созданья пламенной мечты
Въ лицо и тѣло облекаетъ,
Отъ Стикса мертвыхъ вызываетъ!
Земля ихъ кости выдаетъ;
На зовъ того, кто ихъ прославилъ,
Ихъ сонмъ могильный прахъ оставилъ,
Взвился, слетѣлся въ хороводъ;
Со тьмой слились ихъ одѣянья, —
О страхъ! — ихъ слышу завыванья!
Всѣхъ, всѣхъ воскресшихъ вижу васъ.
Героевъ, имъ воспѣтыхъ, тѣни!
Зловѣщій Дантъ, страдалецъ Тассъ
Исходятъ изъ подземной сѣни;
Гяуръ воздвигся, всталъ Манфредъ:
Ихъ озаряетъ грозный свѣтъ.
Стрясая съ вѣждей смертный сонъ,
Всталъ изъ бездоннаго вертепа
Неистовый ѣздокъ Мазепа;
Смущенный, вопрошаетъ онъ:
«Или насъ гонитъ рать Петрова?
«Коня! за мной! Помчимся снова!»
Главу свою находитъ Дожъ
Безсмертную и въ гробномъ прахѣ;
Онъ живъ, погибнувшій на плахѣ;
Отецъ народа, страхъ вельможъ, —
И вновь за честь злосчастный мститель
Идетъ въ безчестную обитель,
Туда, гдѣ темные рабы,
Пылая жаждой кровопійства,
Готовятъ гибель и убійства
И цѣпи рвутъ съ слѣпой толпы —
И вновь съ безстрашьемъ неизмѣннымъ
Онъ предстоитъ судьямъ надменнымъ.
О, искра вѣчнаго Отца!
Огонь святого пѣснопѣнья!
Гласъ вдохновеннаго пѣвца!
Не мрутъ въ вѣкахъ твои творенья!
Ничтоженъ, тлѣненъ человѣкъ,
Но мысль живетъ изъ вѣка въ вѣкъ!
Я зрю блестящее видѣнье:
Горѣ парящій великанъ
Раздвинулъ предъ собой туманъ!
Сколь дерзостно его теченье!
Онъ строгъ, величественъ и дикъ!
Какъ полный мѣсяцъ блѣдный ликъ.
Шумя широкими крылами,
Летитъ — и скрылся дивный духъ.
Такъ водопадъ между скалами
Реветъ, пугаетъ взоръ и слухъ;
Ярясь, стремится въ край надзвѣздный, —
Вдругъ исчезаетъ въ мракѣ бездны.
Или единая отъ звѣздъ,
Отторгшись, мчится, льетъ сіянье
Чрезъ поле неизмѣнныхъ мѣстъ,
Чрезъ сумрачныхъ небесъ молчанье —
И око, зря ея полетъ,
За ней боязненно течетъ!
Упала дивная комета!
Потухнулъ среди тучъ перунъ!
Еще трепещетъ голосъ струнъ,
Но нѣтъ могущаго поэта!
Онъ палъ — и средь кровавыхъ сѣчъ
Свободный грекъ роняетъ мечъ!
Руками закрываетъ очи
Эллада, матерь свѣтлыхъ чадъ!
Вражда и Зависть, дѣти Ночи,
Ругаться славному спѣшатъ…
Прочь, чернь презрѣнная! Прочь, злоба!
Бѣги, не смѣй касаться гроба
Того, чьи пѣсни и дѣла
Почтитъ дальнѣйшее потомство!
Бѣги! Умолкни, вѣроломство!
Его безсмертью обрекла,
Душой блестящей пораженна,
Не ты, Британія, — вселенна!
Бардъ, живописецъ смѣлыхъ душъ,
Гремящій, радостной, нетлѣнной,
Во вѣкъ пари, великій мужъ,
Тамъ надъ Элладой обновленной!
Тиртей, союзникъ и покровъ
Свободой дышащихъ полковъ!
Ты взвѣсилъ ужасъ и страданья,
Ты погружался въ глубь сердецъ
И средь волненій и терзанья
Рукой отважной взялъ вѣнецъ —
Завидный, свѣтлый, но кровавый,
Вѣнецъ страдальчества и славы!
И се — изъ лона облаковъ
Твои божественные братья,
Пѣвцы, наставники вѣковъ,
Тебя зовутъ въ свои объятья!
Утѣшься, горестная тѣнь!
Тебѣ сіяетъ вѣчный день!
Да мимо идетъ укоризна!
О, заглуши упреки, стонъ!
Изгнавшая его отчизна,
Рыдай, несчастный Альбіонъ!
Онъ палъ, не примиренъ, въ чужбинѣ!
Плачь, сѣтуй по великомъ сынѣ!
Увы, ударитъ часъ судьбы!
Вѣковъ потокомъ поглощенный,
Исчезнетъ твой народъ надменный,
Или пришельцовы стопы
Лобзать, окованъ рабствомъ, будетъ,
Но Байрона не позабудетъ
Тебя гнетущій властелинъ
Онъ на тебя перстомъ укажетъ;
Друзьямъ, главой поникнувъ, скажетъ:
«Ужель родиться исполинъ
Могъ въ сей землѣ, судьбой забвенной?»
И смолкнетъ, въ думу погруженной!
(1824)
*Источник http://feb-web.ru/feb/pushkin/biblio/ka2/ka2-055-.htm
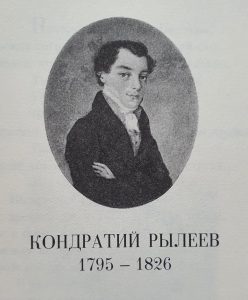
А.П. Ермолову
Наперсник Марса и Паллады!
Надежда сограждан, России верный сын,
Ермолов! Поспеши спасать сынов Эллады,
Ты, гений северных дружин!
Узрев тебя, любимец славы,
По манию твоей руки,
С врагами лютыми, как вихрь, на бой кровавый
Помчатся грозные полки —
И, цепи сбросивши панического страха,
Как феникс молодой,
Воскреснет Греция из праха
Их древней доблестью ударит за тобой!..
Уже в отечестве потомков Фемистокла
Повсюду подняты свободы знамена,
Геройской кровию земля промокла
И трупами врагов удобрена!
Проснулися вздремавшие перуны,
Отвсюду храбрые текут!
Теки ж, теки и ты, о витязь юный,
Тебя все ратники, тебя победы ждут…
(1821)
НА СМЕРТЬ БАЙРОНА
О чем средь ужасов войны
Тоска и траур погребальный?
Куда бегут на звон печальный
Священной Греции сыны?
Давно от слез и крови взмокла
Эллада средь святой борьбы;
Какою ж вновь бедой судьбы
Грозят отчизне Фемистокла?
Чему на шатком троне рад
Тиран роскошного Востока,
За что благодарить пророка
Спешат в Стамбуле стар и млад?
Зрю: в Миссолонге гроб средь храма
Пред алтарем святым стоит,
Весь катафалк огнем блестит
В прозрачном дыме фимиама.
Рыдая, вкруг его кипит
Толпа шумящего народа, —
Как будто в гробе том свобода
Воскресшей Греции лежит,
Как будто цепи вековые
Готовы вновь тягчить ее,
Как будто идут на нее
Султан и грозная Россия…
Царица гордая морей!
Гордись не силою гигантской,
Но прочной славою гражданской
И доблестью своих детей.
Парящий ум, светило века,
Твой сын, твой друг и твой поэт,
Увянул Бейрон в цвете лет
В святой борьбе за вольность грека.
Из океана своего
Текут лета с чудесной силой:
Нет ничего уже, что было,
Что есть, не будет ничего.
Грядой возлягут на твердыни
Почить усталые века,
Их беспощадная рука
Преобратит поля в пустыни.
Исчезнут порты в тьме времен,
Падут и запустеют грады,
Погибнут страшные армады,
Возникнет новый Карфаген…
Но сердца подвиг благородный
Пребудет для души младой
К могиле Бейрона святой
Всегда звездою путеводной.
Британец дряхлый поздних лет
Придет, могильный холм укажет
И гордым внукам гордо скажет:
«Здесь спит возвышенный поэт!
Он жил для Англии и мира,
Был, к удивленью века, он
Умом Сократ, душой Катон
И победителем Шекспира.
Он всё под солнцем разгадал,
К гоненьям рока равнодушен,
Он гению лишь был послушен,
Властей других не признавал.
С коварным смехом обнажила
Судьба пред ним людей сердца,
Но пылкая душа певца
Презрительных не разлюбила.
Когда он кончил юный век
В стране, от родины далекой,
Убитый грустию жестокой,
О нем сказал Европе грек:
«Друзья свободы и Эллады
Везде в слезах в укор судьбы;
Одни тираны и рабы
Его внезапной смерти рады».
(1824)
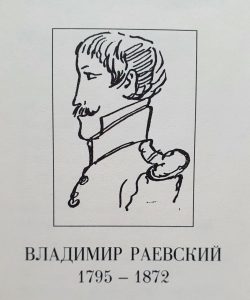
К друзьям в Кишинев
Итак, я здесь… за стражей я…
Дойдут ли звуки из темницы
Моей расстроенной цевницы
Туда, где вы, мои друзья?
Еще в полусвободной доле
Дар Гебы[1] пьете вы, а я
Утратил жизни цвет в неволе,
И меркнет здесь заря моя!
В союзе с верой и надеждой,
С мечтой поэзии живой
Еще в беседе вечевой
Шумит там голос ваш мятежный.
Еще на розовых устах,
В объятьях дев, как май, прекрасных
И на прелестнейших грудях
Волшебниц милых, сладострастных
Вы рвете свежие цветы
Цветущей девства красоты.
Еще средь пышного обеда,
Где Вакх чрез край вам вина льет,
Сей дар приветный Ганимеда[2]
Вам негой сладкой чувства жжет.
Еще расцвет душистой розы
И свод лазоревых небес
Для ваших взоров не исчез.
Вам чужды темные угрозы,
Как лед, холодного суда,
И не коснулась клевета
До ваших дел и жизни тайной,
И не дерзнул еще порок
Угрюмый сделать вам упрек
И потревожить дух печальный.
Еще небесный воздух там
Струится легкими волнами
И не гнетет дыханье вам,
Как в гробе, смрадными парами.
Не будит вас в ночи глухой
Угрюмый оклик часового
И резкий звук ружья стального
При смене стражи за стеной.
И торжествующее мщенье,
Склонясь бессовестным челом,
Еще убийственным пером
Не пишет вам определенья
Злодейской смерти под ножом
Иль мрачных сводов заключенья…
О, пусть благое привиденье
От вас отклонит этот гром!
Он грянул грозно надо мною,
Но я от сих ужасных стрел
Еще, друзья, не побледнел
И пред свирепою судьбою
Не преклонил рамен с главою!
Наемной лжи перед судом
Грозил мне смертным приговором
«По воле царской» трибунал.
«По воле царской?» — я сказал,
И дал ответ понятным взором.
И этот черный трибунал
Искал не правды обнаженной,
Он двух свидетелей искал
И их нашел в толпе презренной.
Напрасно голос громовой
Мне верной чести боевой
В мою защиту отзывался,
Сей голос смелый пред судом
Был назван тайным мятежом
И в подозрении остался.
Но я сослался на закон,
Как на гранит народных зданий.
«В устах царя,— сказали,— он,
В его самодержавной длани,
И слово буйное «закон»
В устах определенной жертвы
Есть дерзновенный звук и мертвый…»
Итак, исчез прелестный сон!..
Со страхом я, открывши вежды,
Еще искал моей надежды —
Ее уж не было со мной,
И я во мрак упал душой…
Пловец, твой кончен путь подбрежный,
Мужайся, жди бедам конца
В одежде скромной мудреца,
А в сердце — с твердостью железной.
Мужайся! Близок грозный час,
И, может быть, в последний раз
Еще окину я глазами
Луга, и горы, и леса
Над светлой Тирасы струею,
И Феба золотой стезею
Полет по чистым небесам
Над сердцу памятной страною,
Где я надеждою дышал
И к тайной мысли устремлял
Взор светлый с пламенной душою.
Исчезнет всё, как в вечность день;
Из милой родины изгнанный,
Средь черни дикой, зверонравной
Я буду жизнь влачить, как тень,
Вдали от ветреного света,
В жилье тунгуса иль бурета,
Где вечно царствует зима
И где природа как тюрьма;
Где прежде жертвы зверской власти,
Как я, свои влачили дни;
Где я погибну, как они,
Под игом скорбей и напастей.
Быть может — о, молю душой
И сил и мужества от неба!—
Быть может, черный суд Эреба[3]
Мне жизнь лютее смерти злой
Готовит там, где слышны звуки
Подземных стонов и цепей
И вопли потаенной муки;
Где тайно зоркий страж дверей
Свои от взоров кроет жертвы.
Полунагие, полумертвы,
Без чувств, без памяти, без слов,
Под едкой ржавчиной оков,
Сии живущие скелеты
В гнилой соломе тлеют там,
И безразличны их очам
Темницы мертвые предметы.
Но пусть счастливейший певец,
Питомец муз и Аполлона,
Страстей и бурной думы жрец,
Сей берег страшный Флегетона[4],
Сей новый Тартар[5] воспоет:
Сковала грудь мою, как лед,
Уже темничная зараза.
Холодный узник отдает
Тебе сей лавр, певец Кавказа[6];
Коснись струнам, и Аполлон,
Оставя берег Альбиона[7],
Тебя, о юный Амфион[8],
Украсит лаврами Бейрона.
Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как ясный заговор,
Как преступление, на плаху
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать.
Пора, друзья! Пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя-народа дух и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече
И сокрушало издалече
Царей кичливых рамена.
Когда ж дойдет до вас, о други,
Сей голос потаенной муки,
Сей звук встревоженной мечты?
Против врагов и клеветы
Я не прошу у вас защиты:
Враги, презрением убиты,
Иссохнут сами, как трава.
Но вот последние слова:
Скажите от меня О[рлов]у[9],
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил
И в дни убийственныя жизни
Немрачен был, как день весной,
И даже мыслью и душой
Отвергнул право укоризны.
Простите… Там для вас, друзья,
Горит денница на востоке[10]
И отразилася заря
В шумящем кровию потоке.
Под тень священную знамен,
На поле славы боевое
Зовет вас долг — добро святое.
Спешите! Там волкальный звон
Поколебал подземны своды
И пробудил народный сон
И гидру дремлющей свободы!
(1822)
_______________
Примечания:
1. Геба — богиня молодости, разносившая богам нектар.
2. Ганимед — виночерпий на пирах богов.
3. Эреб — в греч. мифологии — часть Аида, подземного жилища мертвых, где находился дворец его владыки — Плутона.
4. Флегетон — в греч. мифологии огненная река в подземном царстве.
5. Тартар — в греческой мифологии — подземная бездна (позже под этим словом подразумевали преисподнюю).
6. «Певец Кавказа» — Пушкин
7. Альбион — Англия.
8. Амфион — сын Зевса, звуками лиры заставлявший двигаться камни.
9. Орлов М. Ф. — генерал, один из вождей Союза благоденствия, командир 16 пехотной дивизии, стоявшей в Кишиневе. Был заподозрен в политической неблагонадежности в связи с арестом Раевского и в 1822 г. устранен от командования дивизией.
10. Денница на востоке — греческое восстание (см. выше).

ВОЗЗВАНИЕ НА ПОМОЩЬ ГРЕЦИИ
На полдне, с воплями смесясь?
Откуда дымные несутся
Столпы, до облаков клубясь?
Там грозной брани слышны клики,
Убийц жестоких гласы дики
И жертв убийства томный стон;
Земля трясется от ударов,
И вспыхнул огнь, и от пожаров
Далекий рдеет небосклон.
Сносить ее дручащий гнет,
Бессильна в горестной неволе
Претерпевать всю лютость бед,
Против злочестного тирана,
К ней лютым зверством обуянна,
Защиты обнажила меч,
Вокруг креста соединилась
Ее преславных предков течь.
Им угнетенной жертвы сей,
Собравши спиры, месть несущи,
Простер злодейску длань над ней,
Священны храмы оскверняет,
Причет невинный умерщвляет,
И жен и дев на студ влачит;
Сжигает веси, рушит грады
И трупы граждан всех в громады
Горой на стогнах громоздит.
Не утоляет жажды злой,
Усеять хочет он главами
Весь край, попран его стопой.
Он хочет, в месть своей гордыни,
Страны все обратить в пустыни
И, не поставя буйству мер,
На всех живущих смерть изрыгнуть,
Чтоб в лютой ярости воздвигнуть
Из Греции — один костер.
Так, пламенны открыв уста,
Горящи реки изрыгает
На все окрестные места:
Там палит жатвы, вертограды,
Тут жупелем заносит грады,
И, многочисленный народ
Пожрав с пространною столицей,
Над сей всеобщею гробницей
Кремнистый возвышает свод.
О злополучная страна!
От лютых язв изнеможенна
И кровью чад обагрена,
Что в скорбной ты предпримешь доле?
Томиться ль в тяжкой вновь неволе
Чтоб свергнуть рабства цепь постылу,
Преобразишься ты в могилу
Средь круга вражеских могил?
Иль пасть, иль тяжко иго стерть,
И к чадам доблестным воззвала:
«Свобода, храбрые! иль смерть!»
И храбрые к мечам стремились,
Как из земли, полки родились;
Одним все духом млад и стар,
И жены, вспламенясь, ко брани
Отважные простерли длани, —
И смертный отражен удар.
Взрастили лавры на полях,
Где Ксеркса жезл самодержавный
И меч его поверглись в прах,
Где горды зрели Термопилы,
Как греков горсть все персов силы
В стремленьи воспятить могла
И где, отечество спасая,
Ни шага вспять не отступая,
Дружина храбрая легла, —
На поле ратное течет,
Против свирепа властелина
Вновь племя Спарты восстает;
В мечи перековав оковы,
Все в лютый бой лететь готовы
Без шлемов, броней и щитов:
Им шлем — священна правость брани,
Им бро́ня — крепка грудь и длани,
А щит — всевышнего покров.
Стесните правоверну рать;
Против креста все силы ада
Возмогут ли противостать?
Где храбры предки потопляли
Несчетны перски корабли;
Уж меч ваш в тех полях сверкает
И ветр хоругвы возвевает,
Где их врагов полки легли.
Поклявшиесь кресту служить!
Захочете ль бессмертной славы
Себя в сей брани отчуждить?
Возможно ль зреть вам терпеливо,
Чтоб враг попрал пятой кичливой
Единоверну вам страну,
Чтоб дланью лживого пророка
Повержен в прах был крест Востока
И чтил царицу тьмы Луну.
Да съединит всех веры глас,
И скоро роковый на брани
Ударит Магомету час.
Уже отверсты вам дороги,
Уж страх и мрачные тревоги
Срацина душу потрясли;
Дерзайте, буйства рог сотрите
И громом мести потребите
Врагов креста с лица земли.
На буйную гордыню пасть,
Обыкший чужды рвать оковы
И усмирять тиранов власть!
Спеши, и с грозной колесницы
Ударом сильныя десницы
Взнесенно размозжи чело;
Рази, — разрушь гнездо злодеев
И узы тяжкие ахеев
Как бренно сокруши стекло.
Прийти, увидеть, победить
Востока стан восстановить.
Сам бог на путь наставит правый,
Он знает, что не прелесть славы,
Не мзда — предмет души твоей,
Что мир держав — твоя отрада,
Блаженство подданных — награда,
Креста победа — твой трофей.

Стонать под игом агарян!
Тиранов милой нам Эллады
Настал желанный мести час!
Внемлите голосу отчизны,
Она, рыдая, кличет вас:
«Ко мне, сыны мои, о греки,
И за меня и стар и млад!»
Друзья! рука с рукой — и в сечу!
С кипящей радостью глася:
«Восстань гроза и честь народа,
Свобода Греции, свобода!»Где наши памятники славы,
Ваяний, зодчества краса?
Где свет наук? Всего лишились
Под тяжким игом агарян!
Рабы в невежестве позорном,
Мы терпим лютой пытки срам
И поруганье пьем как воду!..
Всё нам: угрозы, бой и смерть,
И с милой родиной разлука,
И в родине — позор и стыд.
Чего ж еще? Но вы, о греки!
Взывайте, дружно отличась:
«Воскресни счастие народа,
Свобода Греции, свобода!»Где вы, сыны Эллады пышной,
Где славный Греции народ?
О нем и юг, и запад дальний
Молвой гремели… А теперь
Его забыл и юг и север,
Нигде о нем не говорят,
Нигде как будто и не знают,
Что Греция на свете есть.
Вот до чего доводит рабство
И тяжкий у османов плен!
Но други! Братья! Нам за муки
Приспел желанный мести час.
И греки в радости кипящей
Гласят: «Настал наш светлый день!»
Сбылось спасение народа:
Свобода Греции, свобода!Погибнут гордые тираны!
Уже со всех, со всех сторон
Друзья и братья к нашим грекам
Бегут, — как будто все спешат
На шумный торг, на пышный праздник,
Как гости на венчальный пир!
И кто отстанет от героев?
И стар и млад бежит к своим!
«Отстать позорно, дети, стыдно!» —
Так говорят своим сынам
Отцы и матери в Элладе,
Благословляя их на бой.
И всем твердят: «До смерти бейтесь,
Кто раб — не приходи домой».
Не надо рабства для народа,
Свобода Греции, свобода!
Сошлись и с громкою молитвой —
Сердца и длани к небесам:
И меч об меч — крестообразно
Острят. И от мечей кругом,
Как дождь кипящий, брызжут искры,
И пышет светлых молний блеск,
А там приветствие брат брату,
Булат сверкает по булату, —
И клятву — не вложить мечей,
Доколь враги свободы живы.
За свой народ, за свой закон,
Друзья, нет, предки, биться будем
И славу древнюю добудем
Бесстрашным сердцем и мечом.
О бог! К тебе мольбы народа:
Прочь рабство, будь у нас свобода!
Еще горит над Саламином
Побед и славы светлый луч;
Еще трофеев Марафона
Не стерла времени рука,
Еще нам памятно былое!
И мы беседуем о нем
В беседах тайных — и в восторге
Мы предков видим, как себя!
А наши предки были — Минос,
Ликург спартанский и Солон;
Мы помним твердость Леонида
И честь и доблесть Аристида;
Наш Мильтиад, наш Фемистокл;
Он незабвен — наш беспримерный!
И вот их глас из-за гробов:
«Не нужно рабства для народа —
Свобода Греции, свобода!»
Каких примеров не имеем?
И нам ли не сломать оков?
Мы кровь — до капли за свободу!
И жизнь — отчизне на алтарь!
Далекий путь, кипяща сеча,
Тревоги жизни боевой –
Для пылких греков всё услада;
Труды и бой — им ничего;
Лишь только б рабство уничтожить,
Лишь только б славу возвратить,
Сольем в одну все храбрых души,
Составим тело все одно.
Тогда кого мы убоимся?
И кто отважится на нас,
Когда мы все единым гласом
Воскликнем с клятвой и мольбой:
«Восстань краса и честь народа,
Свобода Греции, свобода!»
(1821)
Греческие девицы к юношам
Счастливцы юноши, он ваш, сей пышный мир!
Всё вам — венки и ласки славы!
И молодая жизнь для вас на шумный пир
Сзывает игры и забавы…
Святой огонь горит у вас в очах,
Как, вдохновенные, на градских площадях
Вкруг вас кипящему народу
Вы хвалите в своих возвышенных речах
И славу пышную, и милую свободу…
А наш удел: в безвестности, в тиши
Томиться пылкою мечтою —
И, погасив в слезах огонь младой души,
Без жизни жить с сердечной пустотою!
(1821)
Грекам, просящим подаяния
Тогда, как празднует Европа общий мир
И приучается к блаженству тихой жизни,
Гонимый грек, убог и сир,
Бежит от сладостной своей отчизны,
От стран Ионии, от милых берегов,
Где бой — на жизнь и смерть, где ратует Эллада!
Там блещет ятаган беснующих врагов,
Там нет и слов: спасенье и пощада!
В плену жена, раскопан дом,
Зарезаны младенцы,
И нищие — в краю чужом —
Афин и Спарты преселенцы!
Оторваны бедой от их родимых стран
(Доколь что даст им суд верховный неба!),
Пришли искать у братьев христиан:
В одежду — лоскута, и в пищу — ломтя хлеба.
(1826)
Греческая ода.
(Песнь Греческого воина).
Блестящ и быстр, разит наш меч
Поработителей Эллады;
Мы бьемся на смерть, без пощады,
Как рая жаждем грозных сеч,
И станут кровью наши воды,
Доколь не выкупим свободы.
Мы зрели казнь своих друзей,
Неверной черни исступленье,
Пожары градов, оскверненье
Святых Господних алтарей:
Не скорбь нам помощь, не угрозы;
Нам кровь нужна за наши слезы!
Так! дивным знаком сих знамен *),
Красой наследственного брега,
Стыдом измены и побега,
Бесчестьем наших чад и жен—
Прияв булат на бранну жатву—
Отмстить врагам даем мы клятву!
Не будет радости у нас;
Без жениха увянет дева;
Поля заглохнут без посева,
Свирелей мирных смолкнет глас,
Доколь над Турком в память века
Не совершится мщенье грека.
О сердцу льстящие мечты!
Надежды близкой, грозной тризны!
Нагряньте с гор сыны отчизны,
Сомкнитесь, латы и щиты!
Гряди, святое ополченье:
Во имя Бога мщенье, мщенье!..
(Одесса, 1824 г.)
***
Греция.
(Два сонета).
I.
Давно ль твой плач, как жалкий плач вдовицы,
Твоим сынам был праведный упрек?
О Греция, казалось Бог обрек
Тебя мечу карательной десницы!
Бесплодней скал, мрачнее стен темницы,
Казалось, ты погибнула навек,
И прозябал на славном прахе Грек,
Как вялый мох на мраморе гробницы.
Узрев тебя, мы восклицали: Нет!
Угасло там мужей великих племя!
Там край рабов: им груз цепей не бремя;
Наследных прав для них не свят завет.
Но дивный нам ты берегла ответ,
И грозное приготовляла время.
II.
Внемли! Чей зов потряс пещер сих своды,
Глубокий мир сих вековых дубрав? *)
Дрожат сердца, знакомый глас узнав,
Как чуткие перед грозою воды.
Восстал, восстал великий дух свободы!
Воздвигнув крест, булат препоясав,
Как ангел битв на выкуп славных прав
Он вас зовет, гонимые народы!
И се кругом звук брани пробежал;
Как ратный стан Эллада возшумела;
Сомкнулись в ряд бойцы святого дела
Грозней твердынь, непоколебимей скал—
Как Божий гром их меч врага попрал,
И слава их по миру загремела!
(Одесса. 1825 г.)
Дмитрий Веневитинов
Четыре отрывка из неоконченного пролога «Смерть Байрона»
I
Байрон
К тебе стремился я, страна очарований!
Ты в блеске снилась мне, и ясный образ твой,
В волшебные часы мечтаний,
На крыльях радужных летал передо мной.
Ты обещала мне отдать восторг целебной,
Насытить жадный дух добычею веков, —
И стройный хор твоих певцов,
Гремя гармонией волшебной,
Мне издали манил с полуденных брегов.
Здесь думал я поднять таинственный покров
С чела таинственной природы,
Узнать вблизи сокрытые черты
И в океане красоты
Забыть обман любви, забыть обман свободы.
II
Вождь греков
Сын севера! Взгляни на волны:
Их вражий покрыли корабли,
Но час пройдет — и наши чолны
Им смерть навстречу понесли!
Они еще сокрыты за скалою,
Но скоро вылетят на произвол валов.
Сын севера! готовься к бою.
Байрон
Я умереть всегда готов.
Вождь
Да! Смерть сладка, когда цвет жизни
Приносишь в дань своей отчизне.
Я сам не раз ее встречал
Средь нашей доблестной дружины,
И зыбкости морской пучины
Надежду, жизнь и все вверял.
Я помню славный берег Хио —
Он в памяти и у врагов.
Средь верной пристани ночуя,
Спокойные магометане
Не думали о шуме браней.
Покой лелеял их беспечность.
Но мы, мы греки, не боимся
Тревожить сон своих врагов:
Летим на десяти ладьях;
Взвилися молньи роковые,
И вмиг зажглись валы морские.
Громады кораблей взлетели, —
И все затихло в бездне вод.
Что ж озарил луч ясный утра? —
Лишь опустелый океан,
Где изредка обломок судна
К зеленым несся берегам
Иль труп холодный, и с чалмою
Качался тихо над волною.
III
Хор
Валы Архипелага
Кипят под злой ватагой;
Друзья! на кораблях
Вдали чалмы мелькают,
И месяцы сверкают
На белых парусах.
Плывут рабы султана,
Но заповедь Корана
Им не залог побед.
Пусть их несет отвага!
Сыны Архипелага
Им смерть пошлют вослед.
IV
Хор
Орел! Какой Перун враждебной
Полет твой смелый прекратил?
Чей голос силою волшебной
Тебя созвал во тьму могил?
О Эвр! вей вестию печальной!
Реви уныло, бурный вал!
Пусть Альбиона берег дальной,
Трепеща, слышит, что он пал.
Стекайтесь, племена Эллады,
Сыны свободы и побед!
Пусть вместо лавров и награды
Над гробом грянет наш обет:
Сражаться с пламенной душою
За счастье Греции, за месть,
И в жертву падшему герою
Луну поблекшую принесть!
(1825)
* * *
Песнь грека
Под небом Аттики богатой
Цвела счастливая семья.
Как мой отец, простой оратай,
За плугом пел свободу я.
Но турков злые ополченья
На наши хлынули владенья…
Погибла мать, отец убит,
Со мной спаслась сестра младая,
Я с нею скрылся, повторяя:
«За всё мой меч вам отомстит!»
Не лил я слез в жестоком горе,
Но грудь стеснило и свело;
Наш легкий челн помчал нас в море,
Пылало бедное село,
И дым столбом чернел над валом.
Сестра рыдала — покрывалом
Печальный взор полузакрыт;
Но, слыша тихое моленье,
Я припевал ей в утешенье:
«За всё мой меч им отомстит!»
Плывем — и при луне сребристой
Мы видим крепость над скалой.
Вверху, как тень, на башне мшистой
Шагал турецкий часовой;
Чалма склонилася к пищали —
Внезапно волны засверкали,
И вот — в руках моих лежит
Без жизни дева молодая.
Я обнял тело, повторяя:
«За всё мой меч вам отомстит!»
Восток румянился зарею,
Пристала к берегу ладья,
И над шумящею волною
Сестре могилу вырыл я.
Не мрамор с надписью унылой
Скрывает тело девы милой,-
Нет, под скалою труп зарыт;
Но на скале сей неизменной
Я начертал обет священный:
«За всё вам меч мой отомстит!»
С тех пор меня магометане
Узнали в стычке боевой,
С тех пор, как часто в шуме браней
Обет я повторяю свой!
Отчизны гибель, смерть прекрасной,
Всё, всё припомню в час ужасный;
И всякий раз, как меч блестит
И падает глава с чалмою,
Я говорю с улыбкой злою:
«За всё мой меч вам отомстит!»
(1825)
Греция.
Подражание Ардану
Рlectuntur Аchiv. Ноrat.
Куда меня влечет воображенье?
Я чувствую в душе восторг и умиленье!
Не на твоих ли я, о Илис берегах?
Не твой ли попираю прах,
Страна, любимая когда по небесами
И населенная полу-богами?
Когда — то… но теперь безмолвна и хладна,
Невольным ужасом мне грудь теснит она!
Где ряд Героев тех, которых мощны длани,
Гроза врагов на поле брани,
Святой свободе храм воздвигли в сих местах?
О тени славные, услышьте глас мой слезный!
Взгляните: ныне Грек, потомок ваш, в цепях!
В поносном рабстве век влачит он бесполезный!
И мать искусств, сия страна,
На жертву варварам, невеждам отдана!
Взгляните, как она стенает,
Согбенная под тяжестью оков;
Взгляните, как она слезами омывает
Гробницы доблестных сынов!
И в сем обширном запустенье,
От рабства впадшие в презренье…
Возможно ль?… Греки духом спят!
Периклов робкие потомки
Холодными очами зрят
Красноречивые отчизны их обломки!
Для них ничто великих предков ряд,
Ни славные в веках святилища познаний:
В них скорби нет о том, и нет воспоминаний;
Мечи их ржавеют — лишь цепи их звучат:
Увы, вся Греция — лишь памятник надгробный!
Она живет в одних развалинах своих;
И странник, вкруг себя бросая взор прискорбный,
Повсюду зрит следы ее тираннов злых.
Он видит мхом седым обросшие могилы,
Героев памятник — здесь были Фермопилы!
И Грек склонил хребет, на прахе сих мужей
Стеня под тяжкими ударами бичей!…
Проснитесь, грозные питомцы Славы!
Проснись, полубогов бесстрашный сонм!
Да воспылает брань кругом
И вновь за родину текут ручьи кровавы!
Явись — и снова Грек в знакомый след пойдет!
Сдружась с победою и честью,
В свирепых варваров свирепой грянет местью
И за моря их проженет!
Увы, все глухо здесь на голос мой призывный,
И сонм полубогов уже навеки мертв!
Плутон в сей мир своих не возвращает жертв!
И здесь разносится лишь рабства стон унывный!
И в час, когда язык благоговейный мой
Героев имена велики повторяет, —
Здесь храмы древности безбожно разрушает
Невежда дерзкою рукой!…
Услышано мое моленье!
Грек за свободу спал: в тиранов сеет страх!
И тени предков, в восхищенье,
Зрят дух великий свой, оживший в их сынах!
Разите — и во гневе яром
Удары сыпьте за ударом!
Мужайтесь — меcти грозный час!
Омойте кровью стыд свой прежний,
Мечем купите мир надежный!…
Вы за свободу… Бог за вас!…
(1822)
Гречанка.
Зачем в руке твоей кинжал,
Дочь вдохновенного востока,
Младые перси панцырь сжал,
И кудри девы черноокой
Шелом безжалостно измял?
Тебе ли свой воздушный стан
Обременять таким нарядом?
Тебе удел природой дан:
Влечь юношей волшебным взглядом,
Их жизни прояснять туман.
Скажи: не родственная ль месть
Тебе кинжал вложила в длани?
Или твоя страдает честь?
Или ты мыслишь в бурях брани
Любви измену перенесть?
„Не изменяла мне любовь:
Ах, тяжелей судьбы удары!
Чем я жила, не придет вновь:
Там над обломками Ипсары
Дымится греческая кровь.
„Не спрашивай: где мой отец,
Где в муках родшая изныла,
Где сердца верный первенец?
Там, там надежд моих могила:
Ипсара… терновый венец!
„ Но не упал в бедах мой дух:
Я слышу стон моей отчизны;
Он в полночь мой тревожит слух
Сквозь краткий сон печальной жизни,
Как при последнем часе друг.
„Хлад северный не леденит
Утес срывающия воды;
Так цепи звук не заглушит
Неспящий в сердце глас свободы:
Месть варварам мой твердый щит!
„Прости!“.. — Зачем слеза в очах?
Тяжка кровавая обида?
Не унывай: на небесах
Не гаснет солнце Леонида,
И не остыл Эллады прах.
Пусть нежатся среди пиров
Похвал изысканных кумиры;
Лесть ляжет с ними в мрак гробов:
Но ты — ты достоянье лиры,
Живой посредницы веков!
(1824)
Пленный грек в темнице
Родина святая,
Край прелестный мой!
Всё тобой мечтая,
Рвусь к тебе душой.
Но, увы, в неволе
Держат здесь меня,
И на ратном поле
Не сражаюсь я!
День и ночь терзался
Я судьбой твоей,
В сердце отдавался
Звук твоих цепей.
Можно ль однородным
Братьев позабыть?
Ах, иль быть свободным,
Иль совсем не быть!
И с друзьями смело
Гибельной грозой
За святое дело
Мы помчались в бой.
Но, увы, в неволе
Держат здесь меня,
И на ратном поле
Не сражаюсь я!
И в плену не знаю,
Как война горит;
Вести ожидаю —
Мимо весть летит.
Слух убийств несется,
Страшной мести след;
Кровь родная льется,—
А меня там нет!
Ах, средь бури зреет
Плод, свобода, твой!
День твой ясный рдеет
Пламенной зарей!
Узник неизвестный,
Пусть страдаю я,—
Лишь бы, край прелестный,
Вольным знать тебя!
(1822)
БЕЙРОН
А. С. Пушкину
But I have lived and have not lived in vain. {*}
{* Но что ж? я жил, и жил недаром (англ.). - Ред.}
Среди Альбиона туманных холмов,
В долине, тиши обреченной,
В наследственном замке, под тенью дубов,
Певец возрастал вдохновенный.
И царская кровь в вдохновенном текла, {*}
{* Лорд Бейрон происходит от царей:
шотландский король Иаков II был
предок его по матери.}
И золота много судьбина дала;
Но юноша, гордый, прелестный,
Высокого сана светлее душой,
Казну его знают вдова с сиротой,
И звон его арфы чудесный.
И в бурных порывах всех чувств молодых
Всегда вольнолюбье дышало,
И острое пламя страстей роковых
В душе горделивой пылало.
Встревожен дух юный; без горя печаль
За призраком тайным влечет его вдаль -
И волны под ним зашумели!
Он арфу хватает дрожащей рукой,
Он жмет ее к сердцу с угрюмой тоской, -
Таинственно струны звенели.
Скитался он долго в восточных краях
И чудную славил природу;
Под радостным небом в душистых лесах
Он пел угнетенным свободу;
Страданий любви исступленной певец,
Он высказал сердцу все тайны сердец,
Все буйных страстей упоенья;
То радугой блещет, то в мраке ночном
Сзывает он тени волшебным жезлом -
И грозно-прелестны виденья.
И время задумчиво в песнях текло;
И дивные песни венчали
Лучами бессмертья младое чело, -
Но мрака с лица не согнали.
Уныло он смотрит на свет и людей;
Он бурно жизнь отжил весною своей,
Надеждам он верить страшится;
Дум тяжких, глубоких в нем видны черты;
Кипучая бездна огня и мечты,
Душа его с горем дружится.
Но розы нежнее, свежее лилей
Мальвины красы молодые,
Пленительны взоры сапфирных очей
И кудри ее золотые;
Певец, изумленный, к ней сердцем летит,
Любви непорочной звезда им горит, -
Увядшей расцвел он душою;
Но злоба шипела, дышала бедой, -
И мгла, как ужасный покров гробовой,
Простерлась над юной четою.
Так светлые воды, красуясь, текут
И ясность небес отражают;
Но, встретя каменья, мутятся, ревут
И шумно свой ток разделяют.
Певец раздражился, но мстить не хотел,
На рок непреклонный с презреньем смотрел;
Но в горести дикой, надменной
И в бешенстве страсти, в безумьи любви
Мученьем, отрадой ему на земли -
Лишь образ ее незабвенный!
И снова он мчится по грозным волнам;
Он бросил магнит путеводный,
С убитой душой по лесам, по горам
Скитаясь, как странник безродный.
Он смотрит, он внемлет, как вихри свистят,
Как молнии вьются, как громы гремят
И с гулом в горах умирают.
О вихри! о громы! скажите вы мне:
В какой же высокой, безвестной стране
Душевные бури стихают?
С полночной луною беседует он,
Минувшее горестно будит;
Желаньем взволнован, тоской угнетен,
Клянет, и прощает, и любит.
"Безумцы искали меня погубить,
Все мысли, все чувства мои очернить;
Надежду, любовь отравили,
И ту, кто была мне небесной мечтой,
И радостью сердца, и жизни душой, -
Неправдой со мной разлучили.
И дочь не играла на сердце родном!
И очи ее лишь узрели...
О, спи за морями, спи ангельским сном
В далекой твоей колыбели!
Сердитые волны меж нами ревут, -
Но стан и молитвы отца донесут...
Свершится!.. Из ранней могилы
Мой пепел поднимет свой глас неземной,
И с вечной любовью над ней, над тобой
Промчится мой призрак унылый!"
Страдалец, утешься! - быть может, в ту
Как грозная буря шумела,
Над той колыбелью, где спит твоя дочь,
Мальвина в раздумье сидела;
Быть может, лампады при бледных лучах,
Знакомого образа в милых чертах
Искала с тоскою мятежной, -
И, сходство заметя любимое в ней,
Мальвина, вздыхая, младенца нежней
Прижала к груди белоснежной!
Но брань за свободу, за веру, за честь
В Элладе его пламенеет,
И слава воскресла, и вспыхнула месть, -
Кровавое зарево рдеет.
Он первый на звуки свободных мечей
С казною, и ратью, и арфой своей
Летит довершать избавленье;
Он там, он поддержит (в борьбе роковой
Великое дело великой душой -
Святое Эллады спасенье.
И меч обнажился, и арфа звучит,
Пророчица дивной свободы;
И пламень священный ярчее горит,
Дружнее разят воеводы.
О край песнопенья и доблестных дел,
Мужей несравненных заветный предел -
Эллада! Он в час твой кровавый
Сливает свой жребий с твоею судьбой!
Сияющий гений горит над тобой
Звездой возрожденья и славы.
Он там!.. он спасает!.. и смерть над певцом!
И в блеске увянет цвет юный!
И дел он прекрасных не будет творцом,
И смолкли чудесные струны!
И плач на Востоке... и весть пронеслась,
Что даже в последний таинственный час
Страдальцу былое мечталось:
Что будто он видит родную страну,
И сердце искало и дочь и жену, -
И в небе с земным не рассталось!
Между маем и июлем 1824













